1 послание коринфянам святого апостола павла. Толкование на первое послание святого апостола павла к коринфянам. Введение коринф: его жители и обычаи
Введение.
Древняя греческая легенда повествует о Сизифе, который был царем города Коринфа. За наглое непочтение к богам он был приговорен ими к вечному бесполезному труду - катить в гору огромный камень. Но каждый раз, как только Сизиф достигал со своим камнем вершины горы, тот скатывался вниз, к ее подножию, и Сизиф должен был начинать все сначала. Писатель и философ 20 века Альбер Камю видит в этой легенде о коринфском царе прообраз бесцельного и абсурдного существования современного человека.
Но если бы Камю не только прочитал два послания апостола Павла к Коринфянам, а и принял их сердцем, то, возможно, взглянул бы на вещи иначе, ибо в них - путеводная нить для заблудшего человечества… Они были горды и эгоистичны, коринфяне, жившие во времена апостола Павла, - подобно их легендарному царю, зависевшему от капризного Зевса; и это явно чувствовалось в их образе мыслей и жизни. Но вот в первом столетии нашей эры город Коринф посетил милостивый и любящий Бог в лице Своего посланника Павла.
Апостол Павел пришел в Коринф, совершая свое второе миссионерское путешествие (Деян. 18:1-18), скорее всего весною 51 г. по Р. Х. (судя по тому, что проконсул Галлион приступил к исполнению своих обязанностей в Ахаии позднее, а именно в июле 51 г.). В Коринфе Павел познакомился с Акилою и Прискиллою, которые оставили Рим в 49 году, повинуясь указу кесаря Клавдия, запрещавшего евреям жить в столице империи. Акила и Прискилла изготовляли палатки, этим же кормился и апостол.
Поскольку об обращении этой супружеской пары ничего не сказано, создается впечатление, что они уже были христианами, когда Павел встретился с ними. Они были близки духовно, принадлежали к одному и тому же народу, занимались одним и тем же ремеслом. Неудивительно, что апостол проникся к ним симпатией.
По своему обычаю Павел и в Коринфе посещал синагогу, принимая участие в службе; собиравшихся там евреев он старался убедить, что Иисус Христос есть Мессия. А лишившись возможности свидетельствовать в синагоге, апостол стал проводить собрания в стоявшем по соседству доме язычника Иуста, который, слушая Павла, уверовал во Христа (Деян. 18:7). Иуст был одним из многих в Коринфе людей, пришедших к Господу.
Рассуждая по-человечески, Павел, вероятно, имел основания сомневаться относительно числа истинно уверовавших в Коринфе. Дело в том, что этот древний город издавна славился царившим там культом угождения плоти. Еще Гомер в "Илиаде" писал о богатстве Коринфа. А древнегреческий философ Платон в своей знаменитой "Республике" называет проституток "коринфские девочки". Название Коринфа не раз обыгрывалось в греческой литературе, когда речь велась о безнравственности и распутстве.
Так драматург Аристофан изобрел даже новое слово - "коринфиазомаи" - для обозначения внебрачной связи. Согласно древнему писателю Страбону, главным источником и богатства, и разврата Коринфа был храм богини любви Афродиты с его тысячами проституток. Существовала даже поговорка "Не каждому мужчине можно ехать в Коринф".
Почти сто лет после 146 г. до Р. Х. никто и не посещал этот город, который, восстав против Рима, подвергся тогда страшному разрушению. Собственно, уцелели лишь несколько колонн в храме Аполлона. А жители были перебиты или проданы в рабство. Но отличное расположение города послужило причиной того, что место это пустовало недолго: в 46 г. до Р. Х. император Юлий Цезарь восстановил Коринф как римскую колонию. А в 27 году до Р. Х. он сделался столицей провинции Ахаии. Правивший в Коринфе проконсул Галлион позволил апостолу Павлу беспрепятственно проповедывать Евангелие. В этот-то новый Коринф, сохранивший, однако, свои старые пороки, и пришел в 51 г. апостол Павел.
Переписка Павла с коринфянами.
1. Придя в Коринф во время своего первого миссионерского путешествия, Павел оставался там год-полтора и осенью 52 г. отплыл в Ефес, откуда направился в Иерусалим. Прискилла и Акила сопровождали Павла до Ефеса, где и остались; там они встретились с одаренным иудеем из Александрии по имени Аполлос, которому преподали духовные наставления и затем послали его в Коринф на служение (Деян. 18:18-28).
2. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе (Деян. 19:1), Павел, совершая свое третье миссионерское путешествие, возвратился в Ефес; это было осенью 53 г., и пробыл он в Ефесе около двух с половиной лет (Деян. 19). По-видимому, в самом начале своего служения там апостол написал коринфянам то письмо, о котором упоминает в 1-Кор. 5:9; письмо это было неправильно понято ими (5:10-11), а позже оно вообще было утеряно.
3. О проблемах, возникших в Коринфской церкви, Павел узнал от "домашних Хлоиных" (1-Кор. 1:11). А позднее официальная, так сказать, делегация в составе Стефана, Фортуната и Ахаика (1-Кор. 16:17), прибыв к Павлу, рассказала ему, по каким конкретным вопросам произошло разделение между коринфянами. Первое послание апостола было посвящено этим вопросам и, вероятно, написано в 54 или в 55 г. от Р. Х.
4. Но, по всей видимости, оно не решило тех проблем, которые раздирали церковь. Об этом, возможно, Павел узнал от Тимофея (4:17; 16:10). И тогда он решил вновь побывать у коринфян - об этом визите к ним апостол упоминает во 2-Кор. 2:1 как об "огорчительном" (сравните 2-Кор. 13:1, где речь идет о третьем визите Павла в Коринф, на последнем этапе его третьего миссионерского путешествия) - по вине безобразного поступка одного из членов коринфской церкви (2-Кор. 2:5).
5. Возвратившись после второго посещения коринфян в Ефес, Павел написал им письмо, позднее доставленное им Титом; он писал его с глубокой болью в сердце (2-Кор. 2:4), видимо, потому, что вынужден был говорить в нем суровые вещи, опечалившие в свою очередь коринфян (2-Кор. 7:8-9).
6. После бунта, поднятого серебряных дел мастерами, которые кормились при храме Артемиды Ефесской, Павел вынужден был уйти из Ефеса; он направился в Троаду, чтобы встретиться с Титом. Однако, не найдя его, огорченный, пошел в Македонию, беспокоясь, видимо, за безопасность Тита (2-Кор. 2:12-13; 7:5). Встретившись с ним, наконец, апостол узнал от него хорошие новости об общем состоянии коринфской церкви, но одновременно и плохие - о возникновении в церкви группы, настроенной против Павла.
7. Находясь в Македонии, Павел написал Второе Послание к Коринфянам, перед тем, как в третий раз посетил их город зимой 56-57 г. (Деян. 20:1-4).
Цель написания.
Если в Послании к Ефесянам трактуются проблемы вселенской Церкви, то 1 Послание к Коринфянам явно продиктовано озабоченностью апостола положением поместной церкви. Когда кто-нибудь из нас думает, что больше неприятностей, чем у него в церкви, не бывает, ему стоит обратиться к этому письму Павла (и к сопутствующему ему 2 Посланию к Коринфянам), чтобы увидеть вещи в сравнении, а заодно и в их истинном свете. Первое Послание к Коринфянам позволяет нам бросить взгляд на внутреннюю жизнь одной из поместных церквей первого столетия и убедиться, что до истинной святости церкви этой было далеко.
В том как раз и состояла причина написания Павлом этого послания - добиться, чтобы полученное коринфянами освящение приняло практический характер. Ибо мирской дух, по-видимому, имел большее воздействие на эту церковь, чем Дух Божий, несмотря на замечательные и очевидные дары, полученные коринфянами от Духа. Павел стремился изменить это положение. В посланном им в Коринфскую церковь письме отчетливо просматриваются три главные линии:
1. В первых шести главах апостол стремится уладить раздоры внутри церкви, о которых он узнал (1:11), и как в перспективе, так и на практике добиться единства коринфян.
2. Начиная с 7 главы, Павел переходит к разбору конкретных вопросов, которые занимали коринфян (в греческом тексте они каждый раз вводятся словосочетанием пери де - "а теперь что касается"); это вопросы брачных отношений (7:1,25), свободы и ответственности (8:1), духовных даров и внутрицерковного порядка (12:1), сбора пожертвований на нужды святых в Иерусалиме (16:1), и, наконец, перспективы посещения Коринфа Аполлосом (16:12).
3. В 15 главе апостол вновь подтверждает и обосновывает доктрину воскресения из мертвых, которую некоторые опровергали. Возможно, именно в этом видел Павел первопричину многих бед Коринфской церкви и поэтому то, что он говорит в 15 главе, соответствует апогею всего письма.
За всем, чему это письмо посвящено, встает вопрос как самого существования Коринфской церкви, так и силы свидетельства о могуществе Бога и Его Евангелия.
План книги:
I. Вступление (1:1-9) А. Приветствие и представление автора и его читателей (1:1-3) Б. Прославление Бога за плоды Его милости (1:4-9)
II. Разделения в церкви (1:10 - 4:21)
А. Печальная реальность разделений (1:10-17)
Б. Причины разделений (1:18 - 4:5)
1. Непонимание сути благовестия (1:18 - 3:4)
2. Непонимание смысла и назначения служения (3:5 - 4:5)
В. О преодолении разделений (4:6-21)
III. Беспорядки в церкви (главы 5-6)
А. Неумение наставить грешника и вразумить его (глава 5)
Б. Неумение разрешать споры между верующими (6:1-11)
В. Отсутствие должной чистоты в интимных отношениях (6:12-20).
IV. Внутрнцерковные трудности (главы 7-15)
А. Советы по поводу брачных уз (глава 7)
1. Брак и безбрачие (7:1-9)
2. Брак и разводы (7:10-24)
3. Брак и служение Богу (7:25-38)
4. Повторные браки и вдовство (7:39-40)
Б. О христианской свободе (главы 8-14)
1. Христианская свобода и языческое служение идолам (8:1 - 11:1)
а. Принцип братской любви (глава 8)
б. О разумном отношении к привилегиям (9:1 - 10:13)
в. Об отношении к языческой практике (10:14 - 11:1)
2. Христианская свобода и поклонение Богу (11:12 - 14:40)
а. О статусе и правилах для женщин в церкви (11:2-16)
б. Об участии в вечере Господней (11:17-34)
в. О духовных дарах (главы 12-14)
В. Учение о воскресении (глава 15).
1. Неизбежность телесного воскресения (15:1-34)
а. Доказательства на основании фактов, зафиксированных в истории (15:1-11)
б. Логические доказательства (15:12-19)
в. Богословские доказательства (15:20-28)
г. Практические доказательства (15:29-34)
2. Ответы на некоторые вопросы (15:35-58)
а. Ответы на вопросы о воскресении умерших (15:35-49)
б. Ответы на вопросы о восхищении живых (15:50-58)
г. Совет относительно сбора пожертвований для бедных (16:1-4)
д. Павел пишет коринфянам о возможных посещениях их в будущем (16:5-12)
V. Заключение (16:13-24)
Б. Приветствия, проклятие и благословение (16:19-24)
Два послания ап. Павла к Коринфянам были написаны им во время третьего путешествия, первое - из Ефеса, второе - из Македонии. Об условиях написания 2 Кор. речь будет ниже. Что касается первого послания, то ссылка на Ефес (16:8) и на Асию (ст. 19) требует сопоставления 1 Кор. 16 с Деян. 19:21-22: находясь в Ефесе, Апостол собирается в Ахаию через Македонию и подумывает о поездке в Иерусалим (ср. 1 Кор. 16:3-5). Даже миссия Тимофея, о которой идет речь в Деян. 19:22, упоминается в 1 Кор. (16:10-11, ср. 4:17). Этих совпадающих указаний достаточно для определения места и времени написания 1 Кор. Наш вывод допускает уточнение, если указание 1 Кор. 15:32 относится к Ефесскому мятежу, описанному в Деян. 19: (стт. 23 и слл.). В этом случае, 1 Кор. было написано после мятежа.
Но теми двумя посланиями ап. Павла к Коринфянам, которые нашли место в Новозаветном каноне, его переписка с Коринфской Церковью не исчерпывалась. Указание 1 Кор. 5:9 надо понимать, как ссылку на некое послание, которое отправлено было Апостолом ранее нашего первого послания. С другой стороны, и во 2 Кор. Павел ссылается на какое-то раннейшее послание, которое должно было огорчить читателей (2:3-4; 7:8, 12, ср. намек 10:10). Вопреки мнению древних, это строгое послание не могло быть нашим первым посланием, по той простой причине, что 1 Кор. вовсе не отличается строгостью и не могло огорчить читателей. Не мог ссылаться Апостол и на то послание, которое упоминается в 1 Кор. 5:9. Если бы он имел в виду его, был бы совершенно непонятен спокойный тон 1 Кор. и то глубокое волнение, которым проникнуто 2 Кор. и которое находится в связи с предшествовавшим ему строгим посланием. Остается допустить, что строгое послание было написано Апостолом после нашего первого послания. Таким образом выходит, что ап. Павлом было отправлено в Коринф по крайней мере, четыре послания, из которых наше первое есть второе, и наше второе - четвертое.
Но из 1 Кор. вытекает, что и Коринфяне писали ап. Павлу. В 7:1 он прямо ссылается на полученное им письмо. Это же вытекает из греческого текста 8:1 и 12:1 (правильный русский перевод был бы: что же касается идоложертвенного, то...; что же касается даров духовных, то...). 1 Кор. есть послание ответное. Считаясь с этим его характером, Еп. Феофан Затворник делил 1 Кор. на "отделения", как он называл те части послания, которые соответствовали пунктам полученного Апостолом письма. С этим чисто механическим пониманием плана 1 Кор. согласиться невозможно. Нижеследующий анализ должен показать замечательное внутреннее единство послания. Тем не менее не подлежит сомнению, что Коринфяне писали ап. Павлу, и что на одно из их писем Павел ссылается в нашем первом послании.
Письмо это до нас не дошло, как не дошли и те послания к Коринфянам ап. Павла, которые не попали в Новозаветный канон. Два апокрифические послания: Коринфян к Павлу и Павла к Коринфянам, сохранившиеся в поздних рукописях на сирийском, армянском и латинском языках, в счет не идут. Не удались и современной критической науке ее попытки разложить 2 Кор. на составные части и ценою этого разложения выделить из него осколки утраченных посланий: древнейшего - в отрывке 6:14-7:1 и строгого - в глл. 10-13. Нам остается примириться с утратою и сосредоточиться на изучении того, что мы имеем.
Первое Послание к Коринфянам
1 Кор. начинается с общего обращения (1:1-3), в котором отмечено апостольское достоинство отправителя, и рядом с его именем названо имя Сосфена, брата. Сосфен был, очевидно, известен Коринфянам и потому напрашивается отожествление Сосфена 1 Кор. 1:1 с Сосфеном, начальником синагоги, Деян. 18:17. Из этого отожествления вытекало бы, что Сосфен 1 Кор. 1:1 был Иудей, который уже после второго путешествия ап. Павла был обращен ко Христу.
Вступительное благодарение, которое ап. Павел возносит о духовном преуспеянии читателей (1:4-9), принадлежит к тем благодарениям, в которых преднамечаются основные мысли послания (ср. ст. 7а и глл. 12-14, ст. 7в, 8 и гл. 15).
В стт. 10 и слл. ап. Павел говорит о тех обстоятельствах в жизни Коринфской Церкви, которые заставили его писать. Ему стало известно, что среди верующих обозначались разделения. Одни, чувствуя особую связь с Павлом, называли себя Павловыми, другие - Аполлосовыми, третьи - Кифиными (т.е. Петровыми), четвертые - Христовыми (ст. 12). Апостол огорчен разделениями и хочет, чтобы Коринфяне поняли их неправильность. Но тон послания даже в это части - спокойный. Очевидно, глубокого нарушения церковного мира не произошло. Некоторые толкователи сопоставляют коринфские разделения с Константинопольскими спорами о преимущественном почитании кого-либо одного из трех вселенских учителей и святителей, которые закончились установлением общего им праздника (30 января). Не исключена возможность, что Аполлос привлекал к себе своим красноречием (ср. Деян. 17:24-28), до которого греки были очень падки. Они могли предпочесть его Павлу, который, по собственному признанию, красноречием не отличался (ср. 2 Кор. 11:6; ср. 10:10). В современной науке было даже высказано мнение, что Павел заикался. Но упоминание Кифиных и Христовых позволяет думать, что в Коринфе работали и Иудаистические агитаторы. Они могли противополагать Павлу Петра и ссылаться на то, что знали Христа в дни Его общественного служения. Но в то время, когда ап. Павел писал 1 Кор., их влияние, по всей вероятности, еще не успело сказаться. Павла, по-видимому, сильнее беспокоили те разделения, которые были связаны с противопоставлением его и Аполлоса, и к которым он возвращается еще несколько раз (3:4 и слл., 4:6, ср. еще упоминание Аполлоса в 16:12).
На разделения, обозначавшиеся в Коринфской Церкви, ап. Павел отвечает своим благовестием о Христе (глл. 1 и 2). И, прежде всего, раздорам среди Коринфян, он противополагает Самого Христа, как единое начало спасения (1:13-16). Но Христос, которого Павел проповедовал в Коринфе, есть Христос распятый (2:1-2, ср. уже 1:13). Благовестие о Христе распятом есть благовестие о Кресте (1:17-29) оно являет мудрость Божию в немощи человеческой. С мудростью Божией мудрость человеческая несовместима. Мудрость Божия неизреченна и доступна, в благодати Св. Духа. только духовным. Она закрыта для людей душевных, которые не могут вместить того, что исходит от Духа Святого (2:6-16). Противоположение людей душевных и духовных возвращает нас к свидетельству 1 Фесс. 5:23 о трехчастном составе человека. Но этим противоположением ап. Павел не ограничивается. Оно встало перед ним в связи с сопоставлением неизреченной премудрости Божией и мудрости человеческой. Но возникает вопрос: была ли открыта тайна этой премудрости Коринфянам, и что им нужно? Павел отвечает на него в глл. 3 и 4. Коринфяне, когда он пришел к ним впервые, были младенцы и, как младенцы - плотяны. В лучших рукописях греческого текста гл. 3 ап. Павел применяет к Коринфянам два прилагательных не люди ли вы?. Чередование этих двух прилагательных создает игру слов, которая трудно поддается переводу. Суффикс значит: каменный, или деревянный. В прилагательном этот говорит о веществе плоти, из которого сделан человек. По немощи плоти, младенцу недоступна твердая пища, и Павел, когда благовествовал Коринфянам, не мог открывать им глубочайших тайн веры. Однако, и с течением времени положение не изменилось к лучшему. Коринфяне были, как младенцы, они стали сакрики …. Прилагательное саркикос содержит момент оценки. Оно говорит о подчинении высшего начала духа низшему началу плоти. Порабощенность Коринфян плоти сказалась в тех разделениях, которые возникли в их среде. И потому, как раньше Апостол не мог вводить их в тайны премудрости Божией, не мог по причине их младенческого состояния, так он не может и теперь, когда они дух поработили плоти. Он ограничится тем, что скажет им о сущности апостольского служения. Оценка апостольского служения и есть тема глл. 3 и 4. Но интересно, что человек духовный, противополагаемый в гл. 2 человеку душевному (стт. 14-15), противополагается в 3:1 человеку плотскому. Понятие саркикос , не содержащее оценки, вводит, наряду с началами духа и души, третье начало плоти. При этом, понятие плоти сближается с понятием души, под которою, очевидно, разумеется жизненная сила, оживотворяющая тело, и оба противополагаются духу.
Павел возносит служение апостольское на очень большую высоту. Апостолы - сотрудники Божии (3:9). Но это - только одна сторона. С другой стороны, Апостолы - служители Христовы. Они - домоправители, обязанные отчетом (4:1-2). Призванные Богом к сотрудничеству, Апостолы умаляются пред Богом. Павел употребляет образы земледельческие и строительные. В конечном счете не имеет значения, кто насаждал, и кто поливал. Только Бог дает рост (3:6-8). Переходя к строительным образам, Павел подчеркивает, что строить можно только на одном основании, уже положенном. Это основание - Иисус Христос (3:11-17). Строители пользуются разным материалом: огнеупорным и не огнеупорным. День, когда качество материала будет испытано огнем, есть несомненно день Христов, пришествие Господа во славе. Но даже тот неудачливый строитель, постройка которого сгорит, спасется - пускай не без ущерба, - если только он строил на едином основании, Христе. Предостережение Апостола направлено против тех, которые готовы отказаться от основания. Он, очевидно, думал, что этою опасностью грозили Коринфские разделения, если бы они углублялись и дальше. Сам Павел в скорбях и трудах своего служения, чувствует себя отцом Коринфян. Отец может быть и иногда, по неизбежности, бывает строг (ср. 4:18-21). Но для отца характерна не строгость, а любовь (ср. 4:14-17). И наставления Павла в 1 Кор. - это наставления отца.
В плане 1 Кор. глл. 1-4 имеют значение введения. Апостол ставит основную тему послания: единство Церкви, и дает оценку служения апостольского, которая оправдывает его последующие наставления. Эти наставления посвящены частным вопросам, волновавшим Коринфских христиан. Каждый из этих вопросов мог углубить разделения, иначе говоря, нарушить единство Церкви. Предлагая свои решения, ап. Павел остается верен той основной задаче, которую поставил себе с самого начала.
Первый вопрос есть вопрос о телесной чистоте. Ему посвящены глл. 5-7. Поводом к его постановке был случай чудовищного кровосмешения, который имел место в Коринфе (5:1 и слл.). Дело идет, конечно, не о матери, а о мачехе, и отца кровосмесителя, очевидно, уже не было в живых. Тем не менее, случай представлялся вопиющим, даже с точки зрения языческих нравов. Но в христианской Церкви он был рецидивом язычества (ср. еще стт. 10-13), и решение его имело принципиальное значение. Апостол извергает кровосмесника из Церкви, но это извержение имеет своею целью его спасение в день Господень (5:3-5). Единичный случай, поскольку он был рецидивом язычества, неизбежно ставит общий вопрос. Попутно Апостол предостерегает Коринфян против суда у неверных (6:1-8). Можно подумать, что эта новая тема возникает у него по ассоциации: он только что говорил о суде в связи с вопросом о кровосмеснике (5:13). Но и это отступление отвечает его заботе о чистоте и целости Церкви. Общий принцип христианского поведения формулирован в 6:12-14. Он имеет ближайшее отношение к вопросу о телесной чистоте, а равно и к следующему вопросу об идоложертвенном (8-10), но в то же время он есть и основной закон христианской морали. Этот закон гласит, что в основании нравственной жизни христианина лежит свобода. Христианскую свободу должно беречь, как высшую ценность (ср. стт. 12б, 20а, 7:23). Но христианину, при всей его свободе, не все полезно (ст. 12), и он должен уметь ограничивать свою свободу. Об ограничении свободы по любви к ближнему (ср. 8:9, 9:19), Апостол будет говорить по поводу проблемы идоложертвенного. В связи с вопросом о телесной чистоте, он говорит о том самоограничении, которого требует святость тела, его посвящение Господу, обитание в нем Духа Святого.
Учение о браке, которому посвящена гл. 7, вызвано вопросом, поставленным Коринфянами в их письме к ап. Павлу (ср. ст. 1). Но оно внутренне связано с темой о телесной чистоте, и этим объясняется то, что Павел касается его именно здесь. С первого взгляда может казаться, что Павел подходит к браку чисто утилитарно. Брак для него средство против блуда (ср. ст. 1-2, 9). В смешанных браках, где один из супругов уверовал во Христа, а другой остался язычником, Апостол высказывается против расторжения брака, в надежде, что верующий супруг может обратить неверующего (ср. ст. 12-16). Во всех этих случаях брак есть средство к достижению некоей высшей цели. Но состоянию безбрачному: девству или вдовству, апостол отдает предпочтение перед состоянием брачным. Это свое убеждение ап. Павел высказывает со всей ясностью (ср. ст. 1:38-40). Он ставит в пример самого себя (ст. 8) и думает, что и он имеет Духа Божия (ст. 40б). Однако, высказываясь в пользу девства, Павел делает оговорку: девство не предписано Господом. Павел проводит различие между тем советом, который предлагает он, Павел, и повелением Господним (ст. 25). Он объясняет свой совет условиями переживаемого момента (стт. 29-32, ср. еще ст. 26). Мы и здесь улавливаем в его словах напряженность эсхатологического ожидания: "преходит образ мира сего" (ст. 31). Очевидно, чисто-утилитарное оправдание брака не выражало мысли ап. Павла во всей ее глубине. Он, во всяком случае, далек от уничижения брака. Мало того, из отдельных его замечаний вытекает, что он понимает брак, как теснейшее единение супругов (ср. стт. 3-4). При этом он обосновывает запрещение развода прямым повелением Господним, и исключает самую возможность второго брака разведенной (стт. 10-11). Это представление о теснейшем единении супругов и о нерасторжимости брака открывает путь к мистическому учению о браке, как отображении союза Христа и Церкви, учению, которое несколько лет спустя будет дано ап. Павлом в послании к Ефесянам (гл. 5). Основная мысль ап. Павла во всяком случае ясна: в союзе брачном или в безбрачии, человек имеет одно призвание. Это призвание есть всецелое служение Богу: недаром все земные и, в первую очередь, социальные ценности подвергаются переоценке во Христе (ст. 22).
От вопроса о телесной чистоте ап. Павел переходит к вопросу об идоложертвенном (8-10). Как уже было сказано, ап. Павла и об этом предмете тоже запрашивали его Коринфские корреспонденты (ср. 8:1 в греческом тексте). Замечательно, что Павел, давая указания касательно идоложертвенного, нигде не ссылается на постановление Иерусалимского Собора - и воздержание от идоложертвенного, которое он, вообще говоря, рекомендует своим читателям, он не понимает как послушание законно установленной норме. По убеждению ап. Павла, оно должно проистекать из любви. Для нашего времени проблема, как таковая, не существует. Но те принципиальные исходные точки, от которых Павел отправляется при ее решении, сохраняют свое значение во все времена.
Решение ап. Павла покоится на двух основаниях. Эти два основания: знание и любовь (8:1-3). Знание касается идоложертвенного. Ап. Павел отрицает самое бытие идоложертвенного (стт. 4-6). Понятие идоложертвенного предполагает существование идолов, как изображений языческих богов. Но для ап. Павла не существует языческих богов. Он не отрицает реальностей, которые язычники почитают, как богов. Его мысль достигнет полной ясности в гл. 10. Но эти реальности не боги, а бесы. Как боги, языческие боги просто не имеют бытия. А потому не существует и идоложертвенного. Это знание об идоложертвенном есть основание свободы. Но свобода, которою обладает сильный и знающий, может быть соблазном для немощного. И ап. Павел ставит перед братом, имеющим знание, долг любви. Во избежание соблазна немощного брата, он должен ограничивать себя и свою свободу (стт. 7-13). Призыв к самоограничению ап. Павел подкрепляет ссылкою на собственный пример (гл. 9). Он тоже не пользовался теми преимуществами, которые связаны с апостольским служением. Он стал Апостолом по необходимости - бывший гонитель думал, по всей вероятности, о своем обращении, - и только безмездное служение дает ему право на награду хвалы, (стт. 15-18). Но ап. Павел ставит и общую цель. Он был всем для всех, т. е. ограничивал себя во всем для того, "чтобы спасти, по крайней мере, некоторых" (стт. 19-22). Он призывает к тому же и своих читателей.
Но против вкушения идоложертвенного говорит не только забота о немощном брате. Гл. Х начинается с предостережения от Ветхого Завета (10:1-13). Израиль в пустыне пренебрег великими милостями Божьими. В словах ап. Павла ясно чувствуется, что он воспринимал эти милости, как прообраз спасения во Христе. И наказание Израиля должно быть предостережением для христиан (ср. особенно стт. 5-12). Павел говорит об искушении, постигшем Коринфян (ст. 13), и затем возвращается к теме идоложертвенного. Вкушение идоложертвенного и для него сопряжено с опасностью идолослужения (ср. ст. 14), потому что трапеза идоложертвенная есть трапеза бесовская, а трапеза бесовская несовместима с трапезою Господнею (ср. 15-22). Павел не отказывается от того определения знания, которое он дал в гл. 8. Языческих богов, как богов, не существует. Потому не существует и идоложертвенного. Он только досказывает свою мысль. Языческие боги - это бесы (ст. 20), и участие в трапезе бесовской христианам не приличествует. Из стт. 16-17 ясно, что трапезою Господнею (ср. ст. 21) Павел называет трапезу Евхаристическую и видит в ней начало, созидающее единство Церкви. Единое тело Церкви, как он скажет в гл. 12 (ст. 27), есть тело Христово. Так уже в ранних посланиях ап. Павла намечается мистическая христология его посланий из уз.
И, все-таки, не мистическая опасность идоложертвенного сосредоточивает на себе внимание Павла. В заключительном отрывке 10:23-11:1 он возвращается к призыву гл. 8. Все позволено - в ст. 23 почти буквально повторяется принцип христианской морали, формулированный в 6:12, - но не все полезно, и не все назидает. Верующий должен думать о брате (ср. ст. 24). Этою заботою и определяется решение тех конкретных случаев, которые Павел имеет в виду в стт. 25-28. Он еще раз предостерегает против соблазна (ст. 32) и ставит в пример себя (ст. 33). Как и в учении о телесной чистоте, мы улавливаем теоцентрическое ударение: все, что делает человек, он должен делать во славу Божию (ст. 31).
Главы 11-14 посвящены вопросу о поведении верующих в молитвенных собраниях. Из этого общего вопроса ап. Павел выделяет три частных, которым и посвящает преимущественное внимание. Первый касается поведения женщин в молитвенных собраниях (11: 2-16), второй - вечери Господней (11:17-34), и третий - дара языков, к которому ап. Павел подходит в связи с другими духовными дарами (12-14).
Вопрос о поведении женщин есть, собственно, вопрос о том, должны ли женщины молиться с покрытой или непокрытой головою (ср. ст. 13). Павел решает его в том смысле, что женщины должны молиться не иначе, как с покрытою головою. В тех доводах, которые ап. Павел предлагает в обоснование своего решения, многое звучит для нас неубедительно (ср. ст. 4-6, 13-15), и кое-что не удержалось и в жизни Православной Церкви (ср. ст. 14). Как и все люди, Апостолы были дети своего времени, и многое, что им по человечеству казалось самоочевидным, ничего не говорило другим христианским поколениям. В вопросе о поведении женщин важно не то решение, которое Павел предлагает, и не те человеческие соображения, которые он приводит, а то принципиальное основание, на котором он строит. Это основание дано в ст. 3. Он говорит о иерархическом соотношении мужа и жены, возводимом через Христа к Богу. Он утверждает царственное положение мужа, как образа и славы Божией (ср. ст. 7). Но иерархия не исключает равенства мужа и жены, в их происхождении друг от друга и обоих от Бога (ср. ст. 12), она сопряжена и с их единством, которое есть единство в Господе (ср. ст. 11). Так, по специальному вопросу, ап. Павел, неизбежно, возвращается к теме о союзе супружеском и, дальше углубляя мысли, намеченные в гл. 7, пролагает пути к учению послания к Ефесянам.
В ст. 17 Павел переходит к следующему вопросу, также связанному с молитвенным собранием верующих. Разделения Коринфян сказываются, когда они собираются вместе. В ст. 18 стоит в лучших рукописях без члена и потому означает не Церковь, а собрание в общем смысле слова. Апостол готов примириться даже с разномыслиями (греч. ереси ), поскольку они служат углублению христианского сознания (ст. 19). Но его смущает неблагоговейное совершение вечери Господней (стт. 20 и слл.). Это и есть тот второй вопрос, связанный с богослужебными собраниями, на котором ап. Павел останавливается. Под вечерею Господнею, он несомненно, разумеет вечерю любви, или Агапу , братскую трапезу, которую совершали древние христиане, но которая с этим именем упоминается в Новом Завете только в послании Иуды (ст. 12) и, может быть, во 2 послании Петра (2:13). В Новозаветную эпоху с агапою было соединено совершение Евхаристии. Потому и посвящает ап. Павел этой теме столько внимания. Как и на Тайной вечере Христа Спасителя, совершение Евхаристии имело место после трапезы. Из отдельных замечаний ап. Павла ясно, что он считал вполне естественным, - а в иных случаях даже желательным, - вкушение пищи перед Евхаристией (ст. 34, ср. ст. 21). Наша практика причащаться натощак утвердилась впоследствии. Очень скоро, может быть, в связи с гонениями, совершение Евхаристии было отделено от агапы.
Отрывок 11:20 и слл. представляет интерес потому, что ап. Павел дает в нем предание об установлении Евхаристии параллельное синоптическому (ср. ст. 23-25). Вполне возможно, что ап. Павел и в тайну Евхаристии был введен Самим Господом (ср. толкование в курсиве русского перевода ст. 23), минуя всякое человеческое посредство (ср. Гал. 1). Нестроения, которые были отмечены в Коринфе на вечерах любви (стт. 20-22) и стали известны ап. Павлу, заставили его указать на смысл Евхаристии, как приобщения к смерти Господней (стт. 26-27), и потребовать от верующих самоиспытания (ср. ст. 28-34). На этом требовании ап. Павла и основана христианская практика "подготовки" к святому причащению. В плане 1 Кор. распоряжения ап. Павла, касательно совершения вечери Господней, возвращают нас к беглому замечанию 10:16, 17. Возражая против разделений, которые проявились и в нестроениях при совершении вечери Господней, ап. Павел сознавал, что Евхаристическая трапеза есть мистическое основание единства Церкви.
Общий вопрос о дарах духовных (глл. 12-14) поставлен ап. Павлом в связи с проявлениями дара языков, которые наблюдались в Коринфе и вызывали смущение. Что это так, вытекает из построения отрывка. В 12:1 Павел ссылается на полученное им письмо, а в стт. 2 и 3, упомянув безгласных идолов, которым читатели служили в прошлом, свидетельствует, что никто, говорящий Духом Божиим, не скажет: Анафема Иисус. Глагол (в 1 Кор. 12:3 в форме говорящий ) употребляется о даре языков. Здесь им обозначается речь во Св. Духе. Дух Святой, к которому восходит дар языков, противополагается безгласным идолам. Апостол с самого же начала берет дар языков под свою защиту. И в дальнейшем, перечисляя духовные дары, он помещает в конце списка разные языки и истолкование языков (12:10). То же повторяется в стт. 28-30. И, наконец, гл. 14, последняя из трех, посвященных духовным дарам, вся целиком сосредоточена на даре языков. Создается впечатление, что ап. Павел все время имеет в уме дар языков и неизменно напоминает о нем читателям. Как в предложении последнее слово, так и в длинной цепи последнее звено, неизбежно, сосредоточивает на себе ударение.
Проявления дара языков вызывали соблазн, ради устранения которого ап. Павел и поставил общий вопрос.
В русском переводе Нового Завета в 1 Кор. 14 при имени существительном "язык" в единственном или во множественном числе, восполняется якобы подразумевающееся определение "незнакомый". Тем самым дар языков, который наблюдался в Коринфской Церкви, толкуется, как овладение иностранными языками, подобное тому, какое имело место в день Пятидесятницы. Но это толкование, несомненно, неправильное. Дело в том, что в повествовании о Пятидесятнице, языки, на которых заговорили Апостолы, определяются, как "иные" языки (Деян. 2:4). Точно так же, в последнем поучении Христовом в Евангелии от Марка (16:17) верующим обещается, что они будут говорить "новыми" языками. Между тем, в 1 Кор. 14, слово "язык" определения не имеет. Это различие не случайно. Из отдельных замечаний 1 Кор. 14 можно вывести, что звуки, которые произносили, владеющие даром языков, не были бессвязными и нечленораздельными. Это был язык, но язык непонятный (ср. стт. 21 и 9-11, а также стт. 5 и слл.). Как непонятный, он и вызывал соблазн (ср. ст. 23). Но из слов ап. Павла вытекает что он был непонятен не только другим, но и самому обладателю дара. Этот последний должен был тоже молиться о даре истолкования (ср. ст. 13). Молитве духом Павел противополагает молитву умом. Обладающие даром языков молятся духом, но не умом (ср. ст. 14-15). Это противоположение раскрывает мысль Апостола. Человеческий язык есть язык понятий и, как таковой, язык ума. Те звуки, о которых идет речь в 1 Кор. 14, не могут быть переведены на язык понятий. Это "воздыхания неизреченные", как, должно быть, их же называет ап. Павел в Римл. 8:26. Современная наука пролила свет на это явление, исследовав экстатическую речь, которая наблюдается в состоянии сильного религиозного возбуждения у некоторых сектантов в России и на Западе. Эта экстатическая речь состоит из членораздельных звуков, чередование которых подчинено определенным законам, позволяющим говорить о некоем языке, так же точно, как мы говорим о детском языке. Детский язык тоже не совпадает ни с одним из исторических языков, и тем не менее, он подчинен своим законам, которые и сообщают ему характер языка. Эти аналогии приближают нас к пониманию природы того явления, которого ап. Павел касается в 1 Кор. 14. Самое название "глоссолалия", которое экстатическая речь получила в науке, заимствовано у Павла говорить . Коринфская глоссолалия тем отличалась от чудесного дара, проявившегося в день Пятидесятницы, что она не допускала отожествления с каким-либо историческим языком. Тем не менее, это явление в Апостольский Век не ограничивалось одною Коринфскою Церковью. Можно думать, что оно наблюдалось и в Ефесе (ср. Деян. 19:6, где в русском переводе без нужды восполнено якобы подразумевающееся слово "иными"). Замечательно, что, по собственному свидетельству ап. Павла (1 Кор. 14:18), он сам владел этим даром в большой мере, чем другие. За это он благодарил Бога. Можно думать, что он ценил этот дар, как чудесное преодоление, силою Духа Святого, тварной человеческой ограниченности (ср. упоминание языков ангельских в 13: 1). Но дар был сопряжен с опасностями, и ап. Павел с этими трудностями считается.
В гл. 12 он говорит о даре языков в ряду других даров духовных. Все они имеют один источник в Св. Духе (стт. 4-11), и все нужны, как нужны различные члены в составе одного тела (стт. 12-27). Эти члены живут одною жизнью, взаимно друг о друге пекутся, и то тело, которое обладатели даров составляют, есть Тело Христово. Из контекста ясно (ср. ст. 28, после ст. 27), что ап. Павел уже в это время отожествлял Тело Христово с Церковью. Наличие в Церкви различных служений связано с обладанием различными дарами (стт. 28-30). Из сказанного вытекает, что дар языков имеет право на существование, как и прочие дары. Но дары имеют неодинаковое достоинство, и Павел рекомендует искать высших даров (ст. 31а). И прежде всего, он противополагает не одному только дару языков, но и всем вообще дарам - путь превосходнейший (ср. ст. 31б). Этот путь есть путь любви (гл. 13). В плане 1 Кор. гимн любви гл. 13 имеет место в связи с учением о дарах духовных. Если дары духовные позволительно понимать, как предвосхищение грядущей полноты, частичное преодоление тварной ограниченности, которому придет конец, когда наступит полнота (ср. стт. 8-12), то любовь выше даров (ср. стт. 1-3), оттого что ей не будет конца (ст. 8), и по этой же причине она выше и веры и надежды (ст. 13). Вплотную к дару языков ап. Павел переходит в гл. 14. И тут-то и сказывается, что в ряду даров духовных ему принадлежит низшее место. Пророчество выше его (ст. 5, ср. стт. 1-4, 23-25, 39-40). Проявление дара языков необходимо требует дара истолкования (ст. 13, ср. стт. 5-6, 28). Павел ценит то, что служит к назиданию Церкви (ср. еще ст. 19). Гл. 14 заканчивается практическими указаниями (стт. 36-40) касательно пользования даром языков, к которым, попутно, присоединяются и некоторые другие. Апостолом руководит забота об общем благе верующих. Он стремится сохранить ценное и предупредить опасности.
Гл. 15 посвящена вопросу о воскресении. Ап. Павел счел необходимым его поставить в связи с полученными им сведениями о том, что в Коринфе некоторые, отрицали воскресение мертвых (ст. 12). К устранению этого заблуждения и направлены усилия ап. Павла. Для утверждения истины воскресения он приводит целый ряд доказательств (ср. стт. 1-11, 13-19, 29-34) и прямых и от противного. Особое место занимает историческое свидетельство о Воскресении Христовом (ср. ст. 3-11), доказывающее возможность воскресения вообще (ср. ст. 12). Это свидетельство, которое, как мы в свое время отметили, существенно дополняет свидетельство Евангельское, есть древнейшая письменная запись благовестия о Воскресении Христовом. Устраняя сомнения в воскресении, Апостол, попутно, дает и положительное учение о воскресении. Так, в стт. 20-28 он открывает смысл Воскресения Христова. Воскресший Христос противостоит Адаму, в лице которого род человеческий подпал власти смерти. Своим Воскресением Христос полагает начало общему воскресению и ведет творение к той божественной полноте, когда Бог будет всяческая во всех (ст. 23). Последнее возражение ст. 35 ставит перед ал. Павлом и нарочитую тему о телах воскресших (стт. 36-56). Он развивает ее из аналогии качественного различия растения и того зерна, из которого оно вырастает. Тело первого Адама было тело душевное. Славное тело воскресения будет тело духовное, по образу, данному во Христе. Это преображение распространится и на тех, кого пришествие Христово застанет в живых. Как и в 1 Фесс. 4:17, ап. Павел, по-видимому думает, что он будет в их числе (ср. ст. 52). В ст. 56 он называет закон силою греха. За этим беглым указанием стоит учение, подробно раскрываемое в послании к Римлянам и послании к Галатам. Учение о воскресении в 1 Кор. 15 принадлежит к тем частям Нового Завета, которые свидетельствуют о напряженности эсхатологического ожидания в первом христианском поколении.
Гл. 16 имеет характер практический и личный. Ап. Павел делает распоряжение о порядке производства сбора в пользу Иерусалимской Церкви (стт. 1-4), говорит о своих личных планах, дает последние указания и посылает приветы. Как и 2 Фесс., 1 Кор., написанное Апостолом, по всей вероятности, собственноручно, кончается в стт. 21-24 его подписью, заключающей напоминание и благословение. Напоминание - о любви к Господу - кончается арамейским речением "маранафа", которое Павел оставляет без перевода. Оно значит "Господь пришел", или "Господь грядет", а, может быть, как в Апк. 22:20, "Господи, гряди". Оно, во всяком случае, свидетельствует лишний раз об эсхатологической устремленности Апостольского Века.
Предложенный анализ 1 Кор., ясно показывает его необычайное внутреннее единство и большую стройность его плана. Послание, начинаясь словом о Кресте (гл. 1), кончается, в своей основной части, свидетельством о Воскресении (гл. 15). Это как бы две вехи, определяющие построение послания. Тема послания есть единство Церкви. Речь идет о Коринфской поместной Церкви, не о Церкви вселенской, - но и поместная Церковь есть некий микрокосм, и то, что имеет силу для Церкви поместной, сохраняет ее и для Церкви вселенской. Единство Церкви покоится на основании нравственном и на основании мистическом. Нравственному основанию посвящены - преимущественно, хотя и не исключительно - главы 5-10. Оно особенно ясно в решении вопроса об идоложертвенном в духе братской любви. В глл. 11-14 Апостол выдвигает - опять-таки, преимущественно, а не исключительно - начало единства мистическое. Такова Евхаристическая трапеза (11), таков Единый Дух Святой, являющий себя в многообразии даров духовных (12). Но, как в первой части Апостол помнит и о мистической опасности идоложертвенного (10:14-22), так и во второй части он ценит дары духовные в зависимости от того назидания, которое они приносят Церкви (14). Назидание Церкви, как критерий оценки, есть критерий не мистический, а нравственный. Цель христианского делания есть жизнь будущего века, и гл. 15, с ее учением о Воскресении, естественно заключает основную часть послания. Совершенно ясно, что, считаясь с местными нуждами Коринфской Церкви, ап. Павел дает в глл. 1-15 учение, имеющее общецерковное значение. Но в гл. 16, какой бы практический и личный характер она ни имела, Павел выходит из тесных границ Коринфской Церкви. Думая о сборе в пользу Иерусалимской Матери-Церкви, Апостол вводит Коринфян в единство христианского мира, он говорит им о своих планах, имеющих значение для всей Церкви, и посылает им приветы от других Церквей.
Коринфская смута
Целью 1 Кор. было сохранение внутреннего единства Коринфской Церкви и привлечение ее к единству всего христианского мира. На основании 2 Кор. мы можем утверждать, что эта цель достигнута не была. Отдельные указания, разбросанные на протяжении 2 Кор. позволяют восстановить те факты, которые произошли после того, как Апостол отправил наше первое послание. Мы отчасти касались этих фактов, когда говорили о его третьем путешествии. В повествовании Деян. они опущены. Но мы имеем все основания думать, что после Ефесского мятежа Апостол осуществил свое намерение посетить Коринфскую Церковь, о котором он писал в 1 Кор. 16: 4-7. На это посещение Павел намекает в 2 Кор. 2:1, а то новое посещение, к которому он в это время готовится, называет третьим (ср. 12:14, 13:1). При этом, когда он писал 1 Кор., у него было намерение не уезжать из Ефеса в Коринф ранее Пятидесятницы (ср. 1 Кор. 16: 8). Если он это намерение исполнил, мы вынуждены признать, что та Пятидесятница, к которой он хотел попасть в Иерусалим, по свидетельству Дееписателя (ср. Деян. 20:16), относится к следующему году. Стремясь в Иерусалим к Пятидесятнице, Павел выехал из Филипп по миновании опресноков (ср. ст. 6). Известное время надо положить на его пребывание в Македонии и путь в Македонию из Еллады, как в Деян. 20 называется Ахаия. Если учесть, что в Елладе (т. е., надо думать, в Коринфе) Павел пробыл три месяца (ср. ст. 3), мы придем к выводу, что он приехал туда в конце ноября - начале декабря. Это и было его третье пребывание в Коринфе. Таким образом, все события, которые упоминаются во 2 Кор, располагаются в течение времени от Пятидесятницы до конца ноября - начала декабря. Эти события были следующие. Павел приехал из Ефеса в Коринф и увидел, что Коринфская община ему изменила. Горе Апостола было усугублено личною обидою, которая была ему нанесена. Что Павел в 2 Кор. 2:5-8 имел в виду вполне определенный случай и определенное лицо, вытекает из его слов об оскорбителе и оскорбленном в 7:12. В современной науке господствует мнение, что под оскорбленным ап. Павел разумеет самого себя (ср. 2:5). Для восстановления положения Павел думал вновь посетить Коринф (1:15-16). Очевидно, он уехал оттуда в Ефес тотчас после кризиса. Но свое намерение он не привел в исполнение (ср. 2 Кор. 1:23-2:1), а послал вместо себя строгое послание (ср. 2:4, 9; 7:8-12), до нас не дошедшее. Его подателем был Тит. Навстречу Титу, который должен был осведомить Апостола о положении в Коринфе, он выехал в Троаду и дальше в Македонию (ср. 2:12-13), куда и привез ему Тит добрые вести (ср. 7:5-7, 13-15). В настроении Коринфян строгое послание произвело перелом.
Есть все основания предполагать, что, происшедшее в Коринфе, было дело иудейских агитаторов. По-видимому, наибольшую опасность единству Коринфской Церкви представляла не борьба Аполлосовых и Павловых, а появление группы Кифиных и Христовых. Во 2 Кор. Павел противополагает себя тем, кого он называет οὶ ὺ̀πὲρ α̉πόστολοι (11:5; 12:11). Русский перевод: "высшие Апостолы", несомненно, неправильный, поскольку он предполагает членов апостольской дванадесятерицы. Так впрочем, думали и древние. Но выражение ὺ̀πὲρ λίαν – может быть, Павлов неологизм - звучит ирониею. Павел называет своих противников "больше, чем весьма, апостолы". Он, очевидно, насмехается над их преувеличенными притязаниями на апостольское достоинство. В действительности, они лжеапостолы и служители сатаны (ср. 11:13-15). Но сами себя они, по всем данным, называли служителями Христовыми (ср. 10:7; 11:22-23). Они, должно быть, считали своим особым преимуществом то обстоятельство, что видели Господа в дни Его земного служения. Это вытекает из того упорства, с которым Павел доказывает, что знание Христа по плоти для настоящего уже не имеет значения (ср. 5:16). С другой стороны, противоположение Нового Завета, как Завета Духа, смертоносной букве Ветхого Завета (3:6), показывает, что противники Павла ссылались на Ветхий Завет. Сопоставление этих данных позволяет утверждать, что Коринфская смута была вызвана непримиримыми Иудаистами фарисейского толка, членами того направления Иудеохристианства, которое потерпело поражение на соборе, но не прекращало своей деятельности и в дальнейшем.
Когда Тит сообщил ап. Павлу о тех благоприятных последствиях; которые имело в Коринфе строгое послание, он решил отправить Тита с новою миссией в Коринф и вручил ему наше 2 Кор. Это с несомненностью вытекает из отрывка 2 Кор. 8:16-24. Совершенно ясно, что в нем Апостол рекомендует подателя послания, а формы прошедшего совершенного (ср. стт. 17, 18-22) надо понимать в смысле аористов эпистолярных. Древний человек, когда посылал письмо, становился на точку зрения получателя. Для получателя в тот момент, когда он читал письмо, действия отправителя, которые он совершал, посылая письмо, были уж в прошлом. 2 Кор. имело своей целью закрепить тот благоприятный перелом в настроении Коринфян, который был достигнут строгим посланием. Поэтому главная часть послания (глл. 1-9), очевидно, обращенная к Коринфской Церкви в целом, отличается мягкостью тона. В ней звучит горячая любовь Апостола к изменявшей ему Церкви (ср., напр., 6:11-13; 7:3-4). В эту часть входят и две главы (8-9), посвященные вопросу о сборе в пользу Иерусалимской Матери-Церкви. Мы не можем отрешиться от впечатления, что Павел придавал особое значение привлечению Коринфской Церкви к большому общецерковному начинанию. С другой стороны, в глл. 10-13 звучат строгие ноты (ср. 10:1-2, 6; 12:20-21; 13:1-2, 10 и др.). Строгость не исключает и любви (ср. 11:2; 12:14, 15 и др.). Но можно думать, что в общине, которая возвращалась на путь добра, агитаторы еще продолжали свою разрушительную работу, и предостережение глл. 10-13 направлено против них. Весьма вероятно, что и 2 Кор. не достигло своей цели, как ее не достигло 2 Кор. Как уже было указано, возмущение Иудеев против ап. Павла, имевшее место в Элладе и отмеченное в Деян. 20:3, могло быть последствием той же иудейской агитации. Если это предположение правильно, мы вынуждены заключить, что замирение, достигнутое строгим посланием, было непрочно. 2 Кор. его не закрепило, а новое посещение ап. Павлом Коринфской Церкви окончилось для него новым огорчением. Впоследствии отношения были, вероятно, восстановлены (ср. 2 Тим. 4:20). Но остается под вопросом даже факт участия Коринфян в помощи Иерусалимской Церкви, того участия, которого Павел так упорно добивался. Нельзя не отметить, что в Деян. 20:4 представители Коринфской Церкви не упоминаются. Если свита Павла состояла из делегатов Церквей, назначенных присутствовать при передачи денег, отсутствие Коринфян может быть показательным. Но каков бы ни был успех 2 Кор., Церковь имела достаточные основания дать ему место в священном каноне Нового Завета. Не говоря уже о том, что это очень личное послание содержит много данных о жизни ап. Павла и ценнейшие материалы для его характеристики, которые были использованы и нами, - Павел касается в нем и догматических вопросов чрезвычайной важности (ср., напр., глл. 3-5) и в целом раскрывает сущность апостольского служения, которое покоится на любви и осуществляется с властью.
Второе Послание к Коринфянам
Послание, как и 1 Кор., начинается с обращения (1:1-2) обычного типа. Наряду с именем Павла-Апостола стоит имя Тимофея-брата. Коринфяне знали Тимофея с первых же дней существования Коринфской Церкви (ср. Деян. 18:5). По всей вероятности, при составлении этого послания, как и многих других, он исполнял обязанности апостольского секретаря.
За обращением и во 2 Кор. следует благодарение (стт. 3-14). Апостол благодарит Бога за утешение в скорби. Утешение идет нисходящим путем. Бог утешает Апостола. Апостол утешает пасомых. Утешение пасомых есть участие в скорбях и утешении Апостола. Благодарение имеет очень общую форму: Павел не говорит, что было причиною той скорби, которую он переживал в Асии (ст. 8). Поскольку, однако, прекращение его скорби было связано с выявлением перед Коринфянами его истинного лика (стт. 12-14), можно думать, что он страдал из-за Коринфян. Это понимание получает подтверждение в дальнейшем.
В отрывке 1:15-2:11 Павел говорит об изменении своих первоначальных намерений. Вместо личного посещения, он отправил строгое послание. Это было изменением тактики. Но основание Павлова отношения к Коринфянам оставалось неизменным. Оно заложено в Боге, обетование Которого получило исполнение во Христе, и Который дал залог Духа в сердца наши (1:17-22). Павел прямо говорит о Св. Троице. А мысль о даре Св. Духа, который, как некий залог (5:5, Ефес. 1:13-14) или начаток (ср. Римл. 8:23), дается верующим уж теперь, в предвосхищении грядущей полноты, есть одна из излюбленных мыслей Павла. Если же он отказался от посещения Коринфа, то это объясняется его любовью к ним и сознанием, что в вере они устояли (в русском переводе: тверды ). Руководящее Павлом начало любви сказывается и в том, что он настаивает на прощении обидчика (2:5-11).
В 2:12 Павел возвращается к теме страдания и утешения, которую он поставил во вступительном благодарении. Он дает подробности, которые показывают, на этот раз, со всей ясностью, в чем состояло его страдание, и что принесло ему утешение. Начинаясь с 2:12, этот отрывок 2 Кор. кончается с концом гл. 7. Но, сказав о той тревоге, которая томила его в Троаде, и с которою он перешел в Македонию (2:12-13), Павел прерывает свой рассказ благодарением Богу (стт. 14-17). Торжество Павла было достижением его апостольского служения, как дела Божия, карающего одних и спасающего других. Апостол останавливается на этой мысли. Он считает нужным показать читателям сущность апостольского служения, дать его догматические основания и сказать лично о себе, как носителе этого служения. Это тем более естественно, что и христианское бытие Коринфян есть дело Павла-Апостола (3:1-3). Конечно, в плане 2 Кор. большой отрывок 3:4-7:4 представляет собой отступление. В 7:5 Павел поднимает нить, которую он обронил в 2:17, или даже еще раньше, в ст. 13. Но по содержанию догматическое учение 2 Кор. 1 и слл. является важнейшею частью послания. Апостол касается в этом отрывке основных истин христианской веры.
Служение Апостола, возложенное на него Богом, есть служение, Нового Завета, который, как завет Духа, противополагается Ветхому Завету (3:4-6). Сущность Нового Завета, по противоположности Ветхому Завету, и раскрывается в гл. 3. Ветхий Завет был завет буквы, с которою была связана смерть (стт. 6-7). Апостол Павел, конечно, имеет в виду проклятие, тяготеющее над нарушителем закона (ср. Гал. 3:10). Ему было известно влечение ко греху, как нарушению закона, которое испытывал подзаконный человек, и которое вело его к смерти (ср. Римл. 7:7-11). Но даже служение смертоносным буквам было окружено славою, хотя и преходящею. Моисей носил на своем лице покрывало, чтобы сыны Израилевы не видели угасания славы, которая осиявала его, когда он сходил с горы. Тем более славно должно быть служение Нового Завета, как пребывающее служение Духа и оправдания (2 Кор. 3:7-13). Но законодатель Моисей был и образом закона. Покрывало лежит и на законе, данном чрез Моисея, до тех пор, пока сыны Израилевы не обращаются ко Христу (стт. 14-16). Эта мысль - о раскрытии Ветхого Завета во Христе - говорит не только о противоположности двух Заветов, но и о их внутренней связи. Толкование ст. 17 представляет большие трудности. Оно должно считаться с контекстом, и потому понимать этот стих, вместе с древними, как доказательство Божества Св. Духа, мы не имеем никаких оснований. Такое доказательство не входило в задачу ап. Павла. Из 1:17-22 мы уже вывели, что у него было ясное сознание догмата Св. Троицы (ср. еще 13: 13). Но в 3:17 его мысль скорее всего обращалась к теснейшей связи, существующей в Св. Троице между Сыном Божьим (Господом) и Духом Святым. Библейская идея о явлении Христа Св. Духом была близка и Павлу (ср. 1 Кор. 12:3 и др.). Во всяком случае, утверждая сущность Нового Завета, как завета Духа, Павел видел действие Духа Господня, т. е. Духа Святого, в свободе (ст. 17б). Мы отметили в 1 Кор. (ср. 8:12, 10:23) то значение, которое Павел придавал свободе, как основанию христианской нравственности. С действованием Духа Святого связано и наше возрастающее преображение во славе по образу славы Господней (ст. 18). В этом - сущность Нового Завета.
В служении апостольском, которое Павел понимает, как служение Нового Завета, он различает две стороны: его внутреннюю сущность и ту оболочку, в которую она заключена. Это, в общих чертах, тема глл. 4 и 5. Внутреннее противополагается внешнему, как сокровище в глиняных сосудах (ср. 4:7). Чрез страдания тела Апостол участвует в смерти Иисуса и надеется на участие в Его Воскресении 4:8 и слл.). Этот путь Апостола спасителен и для пасомых (4:12-15). С истлеванием внешнего человека происходит обновление внутреннего (4:16-18). Цель Апостола и есть облечение в небесное жилище, а не одно только совлечение земного; для достижения этой цели и дал ему Бог залог Духа (5:1-5). Сознанием этой цели определяется поведение Апостола, а, в сущности, и каждого христианина (5:6-10). Павел хочет, чтобы Коринфяне поняли его поведение (стт. 11-13). Новая мысль о любви Христовой, которая объемлет Апостола и в смерти Христовой соединяет всех (стт. 14-15), возвращает Павла к тому же противоположению, на котором он останавливался в гл. 4. Теперь это противоположение раскрывается для него, как противоположение новой твари во Христе всему тому древнему, которое прошло, и с которым было связано знание по плоти (стт. 16-17). В основании новой твари лежит примирение мира с Богом, ставшее возможным в силу искупительного подвига Христова. Служение примирения возложено на, Апостолов, которые, как посланники Христовы, зовут к примирению с Богом (стт. 18-20). Ст. 21 есть один из главных библейских текстов, на которых покоится учение о заместительном значении Страстей Христовых (ср. Гал. 3:13). Как носитель служения примирения, Павел и обращается к Коринфянам с словом наставления (6:1-7:4), ссылаясь при этом и на собственный пример (ср. 6:3-10). Служение Павла было всегда служением Богу в правде. Оно протекало в страданиях, вольных и невольных, но и в непрестанной радости. При всей своей нищете, он многих обогащал. Призывая Коринфян к чистоте жизни и страху Божию, он хочет в своей любви к ним найти отклик в их сердцах. К этому же контексту относится и отрывок 6:14-7:1, которого мы касались выше. Предложенное в науке мнение, которое видит в нем осколок раннейшего послания ап. Павла к Коринфянам (ср. 1 Кор. 5:9), имеет точку опоры в видимом нарушении связи. Апостол возвращается в 7:2 к мыслям 6:11-13, но объективных данных в пользу этого расчленения привести нельзя; и мы, в свое время, высказали мысль, что иудаистическая агитация, нарушив мирное течение церковной жизни в Коринфе, вызвала на поверхность и другие течения, в которых мы улавливаем элементы нарождающегося гностицизма.
В 7:5 ап. Павел возвращается к мыслям гл. 2. Он говорит о том утешении, которое ему принесла встреча с Титом. Строгое послание имело успех. Коринфяне раскаялись в содеянном и оказали послушание Титу. Павел радуется, что может во всем положиться на них.
Глл. 8 и 9 посвящены специальному вопросу о сборе в пользу Иерусалимской Церкви. Апостол ставит Коринфянам в пример жертвенность Церквей Македонских, которые деятельным участием в сборе доказали свою любовь и к нему, Павлу (8:1-8), ссылается на пример жертвенного обнищания Самого Господа в Его искупительном подвиге (ст. 9) и на пользу, которую это усилие принесет самим Коринфянам (ст. 10). Он указывает на то, что помощь, которую он ждет от Коринфян, не должна превышать их достатка (стт. 11-15). Дело сбора он поручает Титу (ср. ст. 6) и двум другим братьям, как представителям Церквей (стт. 16-24). В одном из них (ст. 18) древние толкователи видели евангелиста Луку. Для отожествления его "благовествования" с нашим третьим Евангелием, мы не имеем никаких оснований: в то время оно еще и не было написано, а "Евангелием" называлось христианское благовестие в общем смысле. Однако, сопоставление 2 Кор. с Деян. (ср. форму 1 лица множественного числа в 20:5 и слл.) делает вероятным, что Лука был в Македонии вместе с Павлом и на его пути в Элладу, и потому отожествление с ним брата 2 Кор. 8:18 представляется возможным и даже вероятным, несмотря на то, что соображения, выставленные древними, и не заслуживают нашего внимания. В гл. 9 Павел призывает Коринфян к щедрой помощи (ср. особенно стт. 6-11). В связи с тем, что было сказано в гл. 8, призыв к щедрости в гл. 9 уравновешивает предложение Павла жертвовать по достатку: скудость не должна быть оправданием скупости. Для жертвователей участие в сборе имеет то значение, что ведет к осуществлению общехристианского единства в молитве и любви (стт. 12-15). Единство христианского мира есть единство в Церкви иудеев и эллинов. Эту мысль ап. Павел считал особенно полезным внушать коринфским христианам, еще не до конца изжившим смуту, посеянную иудаистами.
Начиная с гл. 10, тон ап. Павла меняется: в нем слышится строгость. Он защищается против возводимых на него обвинений. Попытка. некоторых ученых выделить глл. 10-13, как остаток строгого послания не встретила широкого сочувствия. Как уже было сказано, различие тона объясняется, по всей вероятности, тем, что в глл. 10-13 Павел преимущественно имеет в виду тех иудаистических агитаторов, которые еще продолжали свою разрушительную деятельность в Коринфе. Он, прежде всего, с властью ополчается на тех, которые говорят о нем, будто он поступает по плоти (10:1-6). Его задача во второй части послания есть автоапология. Его противники противополагали строгость его посланий и его слабость в личном общении (ст. 10: намек на строгое послание). Но, в отличие от противников, он имеет объективное основание для хвалы (10:12-17). Человек может хвалиться, если он владеет положительною ценностью. Положительные ценности не существуют вне Бога. Если ап. Павел хвалится теми ценностями, которыми он владеет, то речь идет о ценностях, в своем бытии восходящих к Богу. Недаром, в Римл. 5 он облекает в форму троякой хвалы (ср. стт. 8, 3, 11) учение о благодати. В таком именно смысле ему принадлежит апостольская власть (ср. 2 Кор. 10: 8) и удел его служения, который назначил ему Бог. В любви своей к Коринфянам, противополагая себя своим противникам (11:1-15), Павел готов, как бы в неразумии и не в Господе, тоже похвалиться по плоти (стт. 16-18), правда, не внешними преимуществами, - он пользуется этим случаем, чтобы еще раз горько посмеяться над своими противниками (стт. 19-21а), - а трудами и лишениями своего служения (стт. 21б-32). Связанный с ветхозаветным прошлым не менее крепко, чем его противники, он имеет больше прав, чем они, именоваться Христовым служителем, потому что больше их страдал за Христа и трудился. Воспоминание о трудах приводит его к воспоминанию об откровениях. В 12:1-6 он говорит о человеке во Христе, который был восхищен до третьего неба (ст. 2), иначе говоря, в рай (ст. 3), где ему дано было слышать неизреченные глаголы. Апостол говорит в третьем лице, и, тем не менее, этим человеком он может похвалиться (ст. 5а). Если он и противополагает его себе, то в этом слышно то же противоположение внешнего и внутреннего человека, о котором была речь в гл. 4. Павел, несомненно, говорит о себе. Как древние пророки (ср. Ис. 1:1; 8:1; 7:1; Иер. 1:2-3; Иез. 1:1-2 и др.), он даже пытается датировать свой мистический опыт: "назад тому лет четырнадцать" (ст. 2). Он только не знает - и на этом настаивает (ср. стт. 2-3), - в теле или вне тела он его пережил. Но на откровениях он не задерживается и к хвале по плоти присовокупляет хвалу своими немощами, жалом, вонзенным в его плоть, ангелом сатаны, заушавшим его, чтобы он не превозносился (12:7-9). Истории толкования этого загадочного места мы касались в другой связи. Господь не внял молитве Апостола и не освободил его от этого страдания, потому не внял, что ему была дана благодать Божия, а сила Божия совершается в немощи. По этой причине, оказывается оправданной и хвала немощами (стт. 9-10). В "неразумии" своей хвалы, Павел видит, что он не ниже других Апостолов, и основанная им Коринфская Церковь не в худшем положении сравнительно с другими Церквами (стт. 11-13).
Собираясь в Коринф в третий раз, он идет, как отец (12:14-13:10). Отцом, в его отношении к детям, движет бескорыстная любовь. И Апостол обращает к ним последнее напоминание для того, чтобы ему не пришлось показывать свою силу. Он вспоминает огорчения, связанные с их последней встречей (12:20-21). Он надеется застать их сильными в добре и не иметь повода проявлять свою власть (13: 7-10).
Послание кончается заключением 13:11-13. Последнее слово послания, после призыва к молитве ст. 11 и приветов ст. 12, есть благословение ст. 13. Обычное в подписях Павловых посланий пожелание благодати содержит во 2 Кор. троичную формулу, получившую, благодаря своей точности, литургическое употребление, как на Востоке, так и на Западе.
Коринф, славившийся большим богатством, и мудростью, хотя уверовал во Христа, но, уверовав, находился в опасности отпасть от Христа. Ибо богатые составляли свои партии, а мудрецы – свои, и, сами избрав себе учителей, порицали Павла, как бедного и необразованного человека. Кроме того, один из них смесился с мачехой; некоторые, по прожорливости, ели идоложертвенное; другие в денежных тяжбах судились пред эллинскими судьями; далее, мужчины отращивали волосы, ели в церквах и не уделяли нуждающимся; превозносились дарованиями духовными; относительно учения о воскресении колебались. Причиной же всех этих беспорядков была внешняя мудрость; ибо она есть мать всех зол для тех, которые верят ей во всем. Посему Павел пишет послание в Коринф с целью исправить все это. Поскольку же, что важнее всего, в Церкви были разделения, а это происходило от высокоумия; то он прежде всего старается истребить высокоумие. Зараженные высокоумием думали, что они учат чему-то высшему. Поэтому Павел и начинает следующим образом.
Книга адресована христианской общине города Коринф в Греции. Коринф в ту пору имел одну из крупнейших христианских общин. Христиане Коринфа были большей частью римскими отпущенниками, хотя греков и евреев здесь также было немало. Святой Апостол Павел посещал Коринф во время второго апостольского путешествия. И теперь, во время третьего путешествия, он в Послании снова обращался к верующим Коринфа.
1-е Послание к коринфянам – читать и слушать по главам.
1 Послание к коринфянам состоит из 16 глав, почитать и прослушать которые Вы можете на нашем сайте.
Авторство, время и место написания.
В отличие от , записанного учеником Павла, Послание к коринфянам автор записывал собственноручно. Было это во время третьего апостольского путешествия в Эфесе. Время написания – между 54 и 57 гг. Подлинность послания никогда не вызывало вопросов. Авторство Апостола Павла доказывают следующие моменты:
- В тексте есть несколько указаний на авторство Павла;
- Послание к коринфянам по стилистике и тону повествований похожи на другие тексты, приписываемые перу Павла;
- Картина, нарисованная автором Послания, весьма детальна и не содержит каких-либо исторических несоответствий, что свидетельствует о большой вероятности авторства самого Павла, либо кого-либо из его близкого окружения.
Во время своего первого пребывания в Коринфе апостол Павел основал здесь христианскую общину. Вначале он проповедовал Евангелие коринфским иудеям в синагоге. Проповеди его не возымели должного эффекта. Поэтому он вскоре переключил свое внимание на язычников и нашел среди них много приверженцев. Именно язычники из бедных слоев населения составили основу новой христианской общины в Коринфе.
Апостол Павел провел в Коринфе около двух лет.
Цель написания Послания к коринфянам.
После отъезда Павла в Коринфе проповедовал Аполлос, чья деятельность внесла неразбериху в жизнь общины. Верующие Коринфа раскололись на четыре лагеря – приверженцев Петра, Павла, Аполлоса и тех, которые не признавали апостольских авторитетов и верили только в Христа.
Верующие, которые составили лагерь Аполлоса, были, в большей степени, иудеями. Аполлосу удалось то, что до этого не удалось Павлу, - убедить иудеев, что Иисус Христос был Мессией. Немало в лагере Аполлоса было и образованных язычников. Им импонировала образованность Аполлоса и то, как замысловато он строил свои речи, в отличие от апостола Павла, который говорил просто и прямолинейно.
Хотя нет никаких данных, подтверждающих, что в Коринфе проповедовал апостол Петр, но тем не менее возник здесь лагерь приверженцев его идей. Вероятнее всего многие палестинские евреи, которые пришли в Коринф, принесли с собой учение Петра. Петр, по представлению христиан Петрова лагеря, был неким высшим апостолом – и его интерпретации тех или иных законов была единственно правильной.
 Апостол Павел
Апостол Павел
Многие обращенные Павлом в христианство коринфяне стояли за идеи своего учителя и образовали также особый лагерь Павловых приверженцев.
Четвертый лагерь составили те, кто не хотел видеть никаких посредников между собой и Христом.
Таким образом через три года после отъезда Павла из Коринфа здесьб образовались четыре партии - Аполлосовых, Петровых, Павловых и Христовых.
В Послании Коринфянам автор сообщает общине о намерении вторично посетить город, чтобы примирить верующих. Позиция Апостола Павла в данном деле проста – он настаивает на примирении верующих во Христе. Помимо идейного раскола в стане верующих автор также осуждает верующих за многочисленные грехи их – прелюбодеяния, тяжбы, пьянство, - и за неправильное или нарочито извращенное понимание о свободе христианина.
Краткое содержание Первого Послания к Коринфянам.
Прежде всего в своем послании Святой Апостол хочет восстановить свой авторитет среди верующих Коринфа. Автор рассуждает о том, какими должны быть отношения между верующими и учителями. Он говорит, что общая задача верующих и апостолов – служить Господу, и что вопрос о разделение на какие-либо партии не имеет смысла.
- Можно ли судиться у языческих судей?
- Как относиться к пороку невоздержания?
- Как относиться к браку?
- Дозволено ли употреблять в пищу идоложертвенное мясо?
Один из последних вопросов, над которым рассуждает автор, носит наиболее универсальный, философский характер – речь идет об употреблении духовных дарований. В конце Послания автор рассуждает о воскресении мертвых.
В Послании к коринфянам Святого Апостола Павла мы имеем перед собою все характерные особенности письма – приветствие, приветы, прощание и пр.
1-е посл к Коринфянам сохранилось в 3-х важнейших редакциях - Александрийской, греко-латинской и сирской.
Комментарии к главе 1
ВВЕДЕНИЕ К ПЕРВОМУ ПОСЛАНИЮ К КОРИНФЯНАМ
ВЕЛИЧИЕ КОРИНФА
Уже один взгляд на карту показывает, что Коринфу было уготовано важное место. Южная Греция представляет собой почти остров. На западе Коринфский залив глубоко вдается в сушу, а на востоке граничит с Сардоническим заливом. И вот, на этом узком перешейке, между двумя заливами, стоит город Коринф. Такое положение города неизбежно привело к тому, что Коринф стал одним из величайших торговых и коммерческих центров античного мира. Все пути сообщения из Афин и северной Греции в Спарту и на Пелопоннесский полуостров проходили через Коринф.
Через Коринф проходили не только пути сообщения между южной и северной Грецией, но большая часть торговых путей из западного Средиземноморья в восточное. Крайняя южная точка Греции была известна под названием мыс Малеа (ныне мыс Матапан). Это был опасный мыс, и "обойти вокруг мыса Малеа" звучало в те времена так же, как звучало позднее "обойти вокруг мыса Горн". У греков было две поговорки, ясно показывающие их мнение об этом: "Пусть тот, кто плавает вокруг Малеа, забудет свой дом", и "Пусть тот, кто плавает вокруг Малеа, сначала составит свое завещание".
Вследствие этого моряки выбирали один из двух путей. Они поднимались по Сардоническому заливу и, если их суда были достаточно малы, перетаскивали их волоком через перешеек и потом спускали их в Коринфский залив. Перешеек назывался Диолкос - место, через которое волокут. Если же судно было слишком большим, то груз выгружали, переносили носильщиками через перешеек на другое судно, стоящее по другую сторону перешейка. Эти семь километров через перешеек, где теперь проходит Коринфский канал, сокращали путь на 325 км, и избавляли от опасностей путешествия вокруг мыса Малеа.
Понятно, каким крупным коммерческим центром являлся Коринф. Сообщение между южной и северной Грецией проходило через него. Сообщение же между восточным и западным Средиземноморьем, еще более интенсивное, чаще всего осуществлялось через перешеек. Вокруг Коринфа находились еще три города: Лехэуле - у западного побережья, Кенхрея - на восточном побережье и Скоэнус - на небольшом расстоянии от Коринфа. Фаррар пишет так: "Предметы роскоши вскоре появились на рынках, которые посещали все народы цивилизованного мира - арабский бальзам, финикийские финики, слоновая кость из Ливии, вавилонские ковры, козий пух из Киликии, шерсть из Лаконии, рабы из Фригии".
Коринф, по выражению Фаррара, был ярмаркой тщеславия античного мира. Люди называли его Греческим мостом, его называли также Злачным местом Греции. Кто-то однажды сказал, что если человек простоит довольно долгое время на Пикадилли в Лондоне, то он может, в конце концов, увидеть каждого жителя страны. Коринф был Пикадилли Средиземноморья. В дополнение к этому там проводились также и Истмийские игры, которые уступали по своей известности лишь Олимпийским. Коринф был богатым многолюдным городом, одним из крупнейших торговых центров древнего мира.
ПОРОЧНОСТЬ КОРИНФА
Коринф получил всеобщую известность благодаря своему торговому процветанию, но он стал также и олицетворением безнравственной жизни. Само слово "коринфовать", то есть жить по-коринфски, вошло в греческий язык и означало вести пьяную и развратную жизнь. Это слово вошло и в английский язык, и во времена регенства коринфянами звали молодых людей, ведших разгульный и безрассудный образ жизни. Греческий писатель Элиан говорит, что, если когда-либо на сцене в греческой драме появлялся коринфянин, то он обязательно был пьяным. Само название Коринф было синонимом разгула. Город был источником зла, известным во всем цивилизованном мире. Над перешейком возвышался холм Акрополь, а на нем стоял большой храм богини Афродиты. При храме жила тысяча жриц богини Афродиты, жриц любви, священных проституток, которые спускались по вечерам с Акрополя и предлагали себя каждому за деньги на улицах Коринфа, пока у греков не возникла новая поговорка: "Не каждый мужчина может позволить себе поехать в Коринф". Помимо этих грубых грехов в Коринфе процветали еще более утонченные пороки, которые привезли с собой купцы и моряки со всех концов известного в то время мира. И поэтому Коринф стал не только синонимом богатства и роскоши, пьянства и невоздержанности, но и синонимом мерзости и разврата.
ИСТОРИЯ КОРИНФА
История Коринфа делится на два периода. Коринф - древний город. Фукидид, древнегреческий историк, утверждает, что первые триремы, боевые греческие корабли, были построены в Коринфе. Согласно легенде, в Коринфе был построен и корабль аргонавтов Арго . Но в 235 году до Р. Х. Коринф постигла трагедия. Рим был занят завоеванием мира. Когда римляне пытались покорить Грецию, Коринф возглавлял сопротивление. Но греки не могли выстоять против дисциплинированного и хорошо организованного римского войска, и в том же году генерал Луций Мумий захватил Коринф и превратил его в груду развалин.
Но место, с таким географическим положением не могло вечно пустовать. Почти ровно через сто лет после разрушения Коринфа, в 35 году до Р. Х., Юлий Цезарь восстановил его из руин, и Коринф стал римской колонией. Более того, он стал столицей, центром римской провинции Ахаиа, в которую входила почти вся Греция.
Во времена апостола Павла население Коринфа было очень пестрым.
1) В нем жили ветераны римской армии, которых поселил здесь Юлий Цезарь. Отслужив свой срок, солдат получал римское гражданство, после чего его посылали в какой-то новый город, давали ему земельный надел, с тем, чтобы он поселился там. Такие римские колонии устраивали во всем мире, и основной костяк населения в них составляли ветераны регулярной римской армии, получившие за свою верную службу римское гражданство.
2) Как только Коринф возродился вновь, в город вернулись купцы, поскольку его отличное географическое положение давало ему существенные преимущества.
3) Среди населения Коринфа было много иудеев. Во вновь построенном городе открывались прекрасные коммерческие перспективы, и они стремились воспользоваться ими.
4) Жили там и небольшие группы финикийцев, фригийцев и народов с востока, со странными и историческими манерами. Фаррар говорит об этом так: "Это смешанное и разнородное население, состоящее из греческих авантюристов и римских горожан, с разлагающей примесью финикийцев. Там жила масса иудеев, отставных солдат, философов, купцов, моряков, вольноотпущенников, рабов, ремесленников, торговцев, маклеров". Он характеризует Коринф как колонию без аристократии, традиций и авторитетных граждан.
И вот, зная, что прошлое Коринфа и само его название были синонимами богатства и роскоши, пьянства, разврата и порока, прочтем 1 Кор. 6,9-10:
"Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?
Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,
Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют".
В этом рассаднике порока, в самом, казалось бы, для этого малопригодном городе во всей Греции, совершил Павел одно из своих величайших деяний, и в нем была одержана одна из величайших побед христианства.
ПАВЕЛ В КОРИНФЕ
Не считая Ефеса, Павел оставался в Коринфе дольше, чем в каком-либо другом городе. С опасностью для жизни покинул он Македонию и перебрался в Афины. Здесь многого он не достиг, и потому пошел дальше в Коринф, где и оставался в течение восемнадцати месяцев. Нам станет ясней, как мало мы знаем о его работе, когда узнаем, что все события об этих восемнадцати месяцах сведены в 17 стихов (Деян. 18,1-17).
По прибытии в Коринф Павел поселился у Акилы и Прискиллы. С большим успехом проповедовал он в синагоге. После прибытия Тимофея и Силы из Македонии Павел удвоил свои усилия, но иудеи были столь враждебны и непримиримы, что ему пришлось уйти из синагоги. Он переселился к Иусту, жившему по соседству с синагогой. Самым известным из обращенных им в веру Христову был Крисп, начальник синагоги; а среди народа проповеди Павла тоже имели большой успех.
В 52 году в Коринф прибыл новый губернатор, римлянин Галлион, известный своим обаянием и благородством. Иудеи попытались воспользоваться его неосведомленностью и добротой и привели к нему на суд Павла, обвиняя его в том, "что он учит людей чтить Бога не по закону". Но Галлион, сообразуясь с беспристрастностью римского правосудия, отказался разбирать их обвинение и не принял никаких мер. Поэтому Павел смог завершить здесь свое дело и потом отправился в Сирию.
ПЕРЕПИСКА С КОРИНФОМ
Находясь в Ефесе, Павел узнал в 55 году, что в Коринфе не все благополучно, и потому написал тамошней церковной общине. Вполне вероятно, что коринфская переписка Павла, которой мы располагаем, является неполной и что компоновка ее нарушена. Надобно помнить, что лишь в 90 году, или около этого письма и послания Павла были впервые собраны. Кажется, они имелись в различных церковных общинах лишь на кусках папируса и, поэтому, было трудно их собирать. Когда собирали послания к Коринфянам, их, по-видимому, нашли не все, собрали не полностью и расположили их не в первоначальной последовательности. Попытаемся представить себе, как это все происходило.
1) Имелось письмо, написанное до Первого послания Коринфянам. В 1 Кор. 5,9 Павел пишет: "Я писал вам в послании - не сообщаться с блудниками". Очевидно, что это указание на ранее написанное письмо. Некоторые ученые полагают, что это письмо бесследно утеряно. Другие считают, что оно содержится во 2 Кор. 6,14-7,1. И действительно, этот отрывок перекликается с вышеупомянутой темой. В контексте же Второго послания к Коринфянам этот отрывок как-то не читается. Если же перейдем непосредственно от 2 Кор. 6,13 ко 2 Кор. 7,2, то увидим, что смысл и связь отлично сохраняются. Ученые называют этот отрывок "Предыдущим посланием". Первоначально, в посланиях не было деления на главы и стихи. Деление на главы было предпринято не ранее тринадцатого столетия, деление же на стихи не ранее шестнадцатого. Поэтому упорядочение собранных писем представляло большие трудности.
2) Различные источники сообщали Павлу о том, что в Коринфе не все ладно. а) Такие сведения доходили от домашних Хлоиных (1 Кор. 1,11). Они сообщали о ссорах, раздирающих церковную общину. б) Новости эти дошли до Павла и с прибытием в Ефес Стефана, Фортуната и Ахаика (1 Кор. 16,17). Которые личными контактами дополняли настоящее положение дел. в) Сведения эти пришли с письмом, в котором коринфская община просила Павла дать указания по различным вопросам. 1 Кор. 7,1 начинается словами "О чем вы писали ко мне..." В ответ на все эти сообщения Павел написал Первое послание к Коринфянам и отправил его к коринфской церкви с Тимофеем (1 Кор. 4,17).
3) Это послание вызвало, однако, дальнейшее ухудшение отношений между членами церкви, и, хотя у нас нет об этом письменных сведений, мы можем заключить, что Павел лично посетил Коринф. Во 2 Кор. 12,14 мы читаем: "И вот в третий раз я готов идти к вам". Во 2 Кор. 13,1,2 он снова пишет им, что придет к ним в третий раз. Ну, а если было третье посещение, то должно было быть и второе. Мы же знаем лишь об одном, изложенном в Деян. 18,1-17. У нас нет никаких сведений о втором посещении Павлом Коринфа, но ведь он находился от Ефеса всего в двух-трех днях плавания на корабле.
4) Это посещение ни к чему хорошему не привело. Дела лишь обострились и, в конечном счете, Павел написал строгое послание. О нем мы узнаем из некоторых отрывков Второго послания к Коринфянам. В 2 Кор. 2,4 Павел пишет: "От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами..." В 2 Кор. 7,8 он пишет: "Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время". Это письмо, как результат душевных страданий, было столь суровым, что он опечалился, послав его.
Ученые называют это послание Строгим посланием. Имеем ли мы его? Очевидно, что это не Первое послание к Коринфянам, потому что оно не душераздирающее и не мучительное. Очевидно также, что во время составления этого послания положение не было безнадежным. Если же мы перечтем теперь Второе послание к Коринфянам, то столкнемся со странным обстоятельством. Из глав 1-9 видно полное примирение, но с 10-ой главы происходит резкий перелом. Главы 10-13 содержат самое душераздирающее, что Павел когда-либо писал. Они ясно показывают, что ему причинили острую боль, что он был оскорблен как никогда ни до, ни после этого. Нападкам и критике подвергаются его внешность, его речь, его апостольство, его честь.
Большинство ученых полагают, что главы 10-13 - и есть Строгое послание, и, что при составлении собрания посланий Павла, оно попало не на свое место. Если мы хотим иметь точное представление о переписке Павла с Коринфской церковью, нам надо читать сначала главы 10-13 Второго послания, а главы 1-9 после них. Мы знаем, что Строгое послание Павел переслал в Коринф с Титом (2 Кор. 2, 13; 7,13).
5) Павла волновало все, что было связано с этим посланием. Он не мог дождаться, когда Тит вернется с ответом, и отправился встретить его (2 Кор. 2,13; 7,5.13). Он встретил его где-то в Македонии и узнал, что все обошлось хорошо и, возможно, в Филиппах, он написал Второе послание к Коринфянам, главы 1-9, - письмо примирения.
Сталкер говорил, что послания Павла снимают покрывало неизвестности с раннехристианских общин, сообщая нам, что происходит внутри их. Лучше всего это высказывание характеризует послания к Коринфянам. Здесь мы видим, что значили для Павла слова "забота о всех церквах". Мы видим здесь и сокрушенное сердце и радости. Мы видим Павла, пастыря своей паствы, принимающего близко к сердцу ее заботы и печали.
ПЕРЕПИСКА С КОРИНФОМ
Прежде чем приступить к детальному разбору посланий, составим хронологию переписки с Коринфской общиной.
1) Предшествовавшее послание, которое, может быть, составляет 2 Кор. 6,4-7,1.
2) Прибытие домочадцев Хлоиных, Стефана, Фортуната и Ахаика и получение Павлом послания Коринфской церкви.
3) В ответ на все это написано Первое послание Коринфянам и отправлено с Тимофеем в Коринф.
4) Положение ухудшается еще больше, и Павел лично посещает Коринф. Это посещение оказывается неудачным. Оно тяжело сокрушило его сердце.
5) В результате этого Павел пишет Строгое послание, которое, вероятно. составляет главы 10-13 Второго послания к Коринфянам, и было переслано с Титом.
6) Не в состоянии вынести ожидания ответа, Павел отправляется в путь, чтобы встретить Тита. Он встречает его в Македонии, узнает, что все образовалось и, возможно, в Филиппах пишет главы 1-9 Второго послания к Коринфянам: Послание примирения.
В первых четырех главах Первого послания к Коринфянам рассматривается вопрос о расхождениях в Божьей церкви в Коринфе. Вместо того чтобы быть единой во Христе, она была расколота на секты и партии, отождествляющие себя с различными христианскими руководителями и учителями. Именно учение Павла вызвало этот раскол, ввиду того, что Коринфяне слишком много думали о мудрости и знании человеческом и слишком мало о чистом милосердии Божием. В действительности же, несмотря на всю их, якобы, мудрость, они еще находились в незрелом состоянии. Они думали, что они мудрые, но, в сущности, они были не лучше детей.
АПОСТОЛЬСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ (1 Кор. 1,1-3)
В первых десяти стихах этого послания имя Иисуса Христа упоминается не менее десяти раз. Павлу предстояло написать трудное письмо: ему приходилось иметь дело со сложным положением, сложившимся в Коринфской церкви, и поэтому и первая и все последующие его мысли были об Иисусе Христе. Мы пытаемся иногда разрешить сложившуюся в церкви трудную ситуацию в духе справедливости, опираясь на правовые нормы и кодексы. Иногда же мы пытаемся преодолеть трудные проблемы, опираясь лишь на свои собственные духовные силы и на здравый смысл. Иначе поступил Павел. В тяжелом для него положении он обращается к Иисусу Христу и пытается разрешить эту проблему в свете распятия и любви Христовой.
Его предисловие говорит нам о двух проблемах:
1) Оно говорит нам нечто о церкви, о Церкви Божией, находящейся в Коринфе, то есть не о церкви Коринфской, а о Церкви Божией. Для Павла любая группа людей, где бы она ни находилась, являлась частью одной и единой церкви Божией. Он не стал бы говорить об Англиканской или Шотландской Церкви, не стал бы определять Церковь по ее географическому положению, что придавало бы ей чисто местный характер; еще менее он определял бы церковное братство по той или иной секте, группе или вероисповеданию. Если бы мы так же думали о церкви, то мы бы больше думали о том, что нас объединяет, нежели о том, что нас разъединяет.
2) Предисловие говорит нам и об отдельном христианине. Павел отмечает в нем три характерные черты.
а) он освящен во Христе Иисусе. Глагол освящать (хагиацо) обозначает выделить для Бога место, освятить его, совершив жертвоприношение. Христианин посвящен Богу через жертву Иисуса Христа; христианин - один из тех, за кого умер Христос, знает об этом и ясно осознает, что лишь через эту жертву все мы принадлежим Богу.
б) они призванные святые. Эти два слова выражены одним греческим словом хагиос. Хагиос обозначает человека или предмет, которые посвящены Богу и служат Ему. Этим словом определяется храм или жертва, предназначенные Богу. Так вот, человек, посвященный в служение Богу, находясь в Его владении, должен был доказать, своей жизнью и своим характером, что он достоин этого. Таким образом хагиос приобретает значение призванного святого.
Но первоначально это слово означало обособление. Человек хагиос отличается от других, потому что он обособлен от обычных людей и выделен из них специально для того, чтобы принадлежать Богу. Прилагательным избранный иудеи определяли себя как народ, они были святым, избранным народом, хагиос лаос, народом, совершенно отличным от всех других народов, потому что они особым образом принадлежали Богу и были особым образом выделены для службы Богу. Когда Павел называет христиан хагиос, он имеет в виду, что они отличаются от других людей, так как они особенным образом принадлежат Богу и предопределены для Его службы. Это их отличие вовсе не исключает их от мирской жизни, а проявит в обычной жизни такие качества, которые характерны для них.
в) все они призывают имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Христианин является членом церковной общины, в которую входят и земля, и небо. Если бы мы иногда поднимали наши глаза за пределы нашего тесного круга и думали о себе как о части Церкви Божией, охватывающей весь мир, то это принесло бы всем нам большую пользу.
3) В этом отрывке ближе определен и Иисус Христос. Павел говорит о Господе нашем, Иисусе Христе и добавляет - их Господа и нашего. Ни один человек, ни одна церковь не имеет монопольного права на Иисуса Христа. Он - Господь наш, но Он и Господь всех людей. В этом и состоит поразительное чудо христианства, что любовь Иисуса Христа, принадлежит всем людям, что "Бог любит каждого из нас так, как будто бы он любил только одного".
НАСТОЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРСТВЕННОЙ МОЛИТВЫ (1 Кор. 1,4-9)
В этом отрывке о благодарственной молитве важны три момента.
1) О сбывшемся обете. Когда Павел проповедовал коринфянам, он говорил им, что Христос может совершить определенные вещи для них. И вот теперь он хвалебно заявляет, что все сбылось, о чем он прежде говорил, что Христос может совершить. Какой-то миссионер однажды в древности сказал пиктскому королю: "Если ты примешь христианство, ты увидишь много чудес, и все они сбудутся". Собственно говоря, нельзя заставлять человека принять христианство. Мы можем лишь сказать ему: "Попробуй, и увидишь, что будет", - в уверенности, что, если он обратится, то увидит, что все сказанное нами - истина.
2) О полученной благодати. Павел употребляет здесь одно из своих любимых слов, харисма, то есть "добровольно сделанный человеку дар"; дар, им не заслуженный, которого он и не смог бы заслужить. Этот дар Божий дается людям, по мысли Павла, двумя разными способами:
а) Спасение есть харисма, дар Божий. Человек никогда не смог бы сам вступить в правильные отношения с Богом. Спасение - незаслуженный дар, идущий исключительно от великодушной любви Божией (ср. Рим. 6,23).
б) Благодать Божия дает человеку различные дарования, которыми он может обладать и пользоваться в жизни (1 Кор. 12,4-10; 1 Тим. 4,14; 1 Петр. 4,10). Если человеку даны дары речи, исцелений, художеств или ремесла, музыки - они дары Божьи. Если мы полностью осознали бы это, оно придало бы новое содержание нашей жизни. Талант и профессия, которыми мы обладаем, не наши достижения - они дар Божий, и, поэтому, мы ответственны за них. Их не следует применять для личной выгоды или престижа, а во славу Божию и для блага людей.
3) О конечной цели. В Ветхом Завете неоднократно повторяются слова о Дне Господнем. В этот день Бог, по представлению иудеев, вмешается непосредственно в историю и жизнь человечества; в этот день старый мир будет уничтожен, и новый сотворен; это будет Судный день, и каждый будет судим. Христиане переняли эту концепцию, но они трактовали День Господень как День Господа нашего Иисуса Христа, когда Иисус вернется вновь в мир во всей своей власти и славе.
И это действительно должен быть Судный день. Старый английский поэт Кэдмон нарисовал в одной из своих поэм картину Судного дня. Он изобразил в центре земли распятие, излучающее странный свет, обладающий свойствами рентгентовских лучей, снимающий маски и личины и показывающий всех в истинном виде. Павел верил, что день Суда человек, верующий во Христа, может встретить без страха, потому что он будет одет не в свою праведность, а в праведность Иисуса Христа, так что никто не сможет обвинить его в чем-то.
РАСКОЛОТАЯ ЦЕРКОВЬ (1 Кор. 1,10-17)
Павел приступает к задаче своего послания: исправить положение, создавшееся в церкви в Коринфе. Он писал свое послание из Ефеса. Рабы, христиане из дома богатой дамы по имени Хлоя посетили Коринф и привезли с собой историю о распрях и разладе.
Павел дважды обращается к коринфянам как к братьям. Как сказал старый комментатор Беза: "В этом обращении находится и скрытый аргумент". Во-первых, он смягчает только что сделанный упрек, который делает не учитель с палкой в руке, а человек, движимый только любовью. Во-вторых, такое обращение должно было показать им, сколь ошибочными были их распри и разлады. Все они братья и должны жить в братской любви.
Стараясь примирить эти расколовшиеся группы церковной общины, Павел употребляет две интересные фразы. Он просит их, чтобы все они говорили одно, то есть он преследует цель устранить разногласия - выражение, обычно употребляемое враждующими сторонами при достижении соглашения. Он желает, чтобы они ".соединены были в одном духе и в одних мыслях", употребляя его в медицинском значении как соединяют сломанную кость, либо вправляют вывихнутый сустав. Разногласия в церковной общине противоестественные и их следует исправить ради здравия и действенности тела всей Церкви.
Павел видит в церкви Коринфа четыре группы: они еще не откололись, раскол находится внутри церкви. Павел употребляет для описания положения греческое слово схизмата, означающее прореха в покрове. Церковь в Коринфе подвергается опасности стать столь же неприглядной, как разорвавшийся покров. Следует отметить, что названные благочестивые личности - Павел, Киф и Аполлос - не имели никакого отношения к расколу и раздорам в церкви. Между ними не было ни противоречий, ни раскола. Их имена были присвоены отдельными группами людей без их ведома и согласия. И действительно, нередко случается так, что так называемые сторонники становятся большей проблемой, нежели противники. Присмотримся повнимательнее к этим группам и попробуем разобраться, что же отстаивала каждая из них.
1) Одна группа заявляла "я Павлов". Несомненно, в эту группу входили, главным образом, люди неиудейского происхождения. Павел всегда проповедовал Евангелие свободы и конец власти закона над людьми. Вероятно, эта группа коринфских христиан стремилась обратить свободу, проповедуемую Павлом, в вольность и распущенность, и использовать новообретенное христианство для оправдания своей распущенности и личного своеволия. Немецкий теолог Бультманн сказал, что христианский индикатив часто приводит к императиву. Представители этой группы коринфских христиан забыли, что христианский индикатив Евангелия привел к христианскому императиву христианской этики. Они забыли, что были спасены не для того, чтобы свободно грешить, а чтобы получить свободу не грешить.
2) Представители другой группы утверждали "я Аполлосов". В Деян. 18,24 дано краткое описание характера Аполлоса. Это был иудей из Александрии, "красноречивый и сведущий в Писаниях". В то время Александрия была центром интеллектуальной жизни. Именно там ученые мужи создали школу, аллегорически толкующую Писание, и выводили крайне сложные толкования из совершенно простых отрывков. Вот один из примеров их занятий: в сочинении Варнавы из Александрии из внимательного анализа стихов Быт. 18,23; 14,14, они делали следующий вывод: Авраам имел 318 человек домочадцев, коих он и обрезал. В греческом написании 18 - а греки использовали в качестве цифровых знаков буквы с определенным значением; так после йоты следует ета, то есть первые две буквы имени Иисуса (Иесус). Цифру 300 же греки обозначали буквой "Т" - символ распятия; следовательно, выводит Варнава, это событие в истории Авраама представляет собой предсказание распятия Иисуса Христа на Кресте! Далее, александрийцы были большими поклонниками литературы. В сущности, именно они внесли интеллектуальный момент в христианство. Все те, кто утверждал "я Аполлосов", несомненно, принадлежали к интеллектуальному крылу Коринфской церковной общины, стремившемуся превратить христианство более в философию, нежели в религию.
3) Была там и группа, утверждавшая "я Кифин". (Киф - это иудейское имя, соответствующее в греческом и латинском Петру.) Большинство из них были иудеи, пытавшиеся учить, что человек все же должен соблюдать иудейский закон. Это были законники, превозносившие закон и, тем самым, преуменьшавшие значение благодати,
4) И были там такие, которые утверждали "я Христов". Это можно объяснить по-разному: а) В греческих рукописях вовсе отсутствует пунктуация, и между словами нет никакого интервала. Вполне возможно, что здесь не выделена особая группа, а что это комментарий самого Павла. Может быть, он диктовал так: я Павлов; я Аполлосов; я Кифин - но я Христов. Возможно, это комментарий Павла к сложившемуся крайне неприятному положению. б) Если же такое предположение неверно, и все же описывается существовавшая группа, то это должна была быть маленькая стойкая группа людей, утверждавших, что лишь они являются истинными христианами в Коринфской церковной общине. Их реальная ошибка состояла не в том, что они заявляли о своей принадлежности Христу, но в том, что они выступали так, будто Христос принадлежит исключительно им. Такое выражение довольно четко определяет небольшую нетерпимую, уверенную в своей правоте, группу.
Не следует думать, будто Павел преуменьшает значение крещения. Люди, крещенные Павлом, были особыми новообращенными. Самым первым новообращенным, по-видимому, был Стефан (1 Кор. 16,15). Крисп когда-то был начальником иудейской синагоги (Деян. 18,8). Гаий, возможно, был странноприимцем, у которого жил Павел (Рим. 16,23). Но самое важное заключается в том, что крещение проводилось во имя Христа.
По-гречески эта фраза обозначает самую тесную связь. Так, например, дать деньги во имя человека значило уплатить по его текущему счету. Продать раба во имя человека - значило отдать этого раба в его абсолютное владение. Солдат римской армии клялся в верности во имя цезаря: и он принадлежал полностью императору. Выражение во имя кого-то подразумевает абсолютное владение. В христианстве же эта фраза несет в себе даже большее значение: она означает, что христианин не только полностью принадлежит Христу, но и каким-то особым образом отождествляется с Ним. А, в общем, Павел хочет сказать следующее: "Я рад, что был так занят проповедованием, ибо если бы я крестил, то это могло бы дать некоторым из вас повод говорить, что я крестил вас в мое владение, а не в Христово". Павел не уменьшает значение крещения, а лишь заботится о том, чтобы ни одно его действие не могло быть истолковано превратно, будто бы он числил их за собой, а не за Христом.
Павел заявляет, что излагал людям историю распятия в самых простых выражениях. Украшать ее риторикой и остроумием он не собирался. Павел хотел привлечь внимание не к языку, а к фактам, не к автору, а к его рассказу. Цель же Павла состояла именно в том, чтобы показать людям не себя, а Христа, во всем Его величии.
КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ ДЛЯ ИУДЕЕВ И БЕЗУМИЕ ДЛЯ ЭЛЛИНОВ (1 Кор. 1,18-25)
И для культурных эллинов и для набожных иудеев история, которую рассказывало им христианство, казалась сущим безумием. Павел начинает тем, что свободно употребляет две цитаты из Исаии (Ис. 29,14; 33,18) с тем, чтобы показать, насколько ненадежна человеческая мудрость, как легко она может подвести. Он приводит неопровержимый факт, что при наличии всей человеческой мудрости, человечество не нашло Бога. Оно все еще слепо и на ощупь продолжает искать Его. И эти поиски были предначертаны Богом, чтобы показать людям беспомощность их положения и тем самым подготовить единственно истинный путь к Его принятию.
Что же представляло собой христианское благовествование? Если мы проанализируем содержащиеся в Деяниях Апостолов четыре знаменитые проповеди (Деян. 2,14-39; 3,12-26; 4,7-12; 10,34-43), то увидим, что в христианской проповеди содержатся определенные неизменные элементы: 1) утверждение о том, что великое обетованное Богом время наступило; 2) краткое изложение истории жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа; 3) утверждение о том, что все это свершилось во исполнение древних пророчеств; 4) утверждение о втором пришествии Иисуса Христа; 5) настойчивый призыв к покаянию и принятию обетованного Духа Святого.
1) Для иудеев эта проповедь была камнем преткновения по двум причинам:
а) Для них было непостижимым, чтобы Тот, Кто окончил жизнь свою на кресте, мог быть Избранным Божиим. Они ссылались на свой закон, где было прямо сказано: "Ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве" (Втор. 21,13). Для иудеев сам факт распятия, не только не доказывал, что Иисус был Сыном Божиим, но напротив" окончательно опровергал его. Нам это может показаться странным, но иудеи, даже читая Исаию 53, никогда не могли бы представить себе страдающего Мессию. Крест был и остается для иудеев камнем преткновения" мешающим им поверить в Иисуса.
б) Иудеи искали знамений. Если настал золотой век, век Божий, то должны происходить поразительные события. В то самое время, когда Павел писал свои послания, выступало много ложных мессий, и все они ловили легковерных обещаниями творить чудеса. В 45 г. появился человек по имени Феудас, убедивший тысячи людей бросить свои дела и пойти за ним к реке Иордан, обещав, что по его слову воды Иордана расступятся, и он проведет их по суше через реку. В 54 г. в Иерусалиме появился человек из Египта, утверждавший, что он пророк. Он побудил тридцать тысяч человек последовать за ним на Масличную гору, пообещав, что по его слову падут стены Иерусалима. Именно этого ожидали иудеи. В Иисусе же они видели скромного и смиренного человека, умышленно избегающего захватывающих зрелищ, служившего людям и окончившего жизнь свою на кресте. Такой человек, по и их мнению, не мог быть Избранником Божиим.
2) Для Эллина такое благовествование казалось безрассудством по двум причинам:
а) Для эллинов определяющей чертой Бога была апафейа. Это не просто апатия, а полная неспособность чувствовать. Греки утверждали, что если бог может чувствовать радость и печаль, гнев и горе, то это значит, что в такой момент на бога оказал влияние человек, оказавшийся, следовательно, сильнее этого бога. Поэтому, утверждали они, бог должен быть лишен всяких эмоций, чтобы никто и ничто не могло повлиять на него. Страдающий бог, по мнению эллинов, это уже несовместимые понятия.
Греки считали, по заявлению Плутарха, что вовлечь бога в человеческие дела - значит нанести ему оскорбление. Бог, по необходимости, совершенно независим и беспристрастен. Эллинам казалась возмутительной сама идея воплощения Бога в человеческий образ. Августин, бывший крупным ученым еще задолго до принятия христианства, говорил, что он нашел у греческих философов параллели почти всем идеям христианства, но никогда не встречал у них утверждения: "Слово стало плотию и обитало с нами". Греческий философ 2-го в. Цельс, энергично нападавший на христианство, писал: "Бог добр, прекрасен и счастлив, и он в том, что прекраснее и лучше всего. Если же, однако, он снисходит к людям, это вызывает в нем изменения, и изменения обязательно к худшему: из доброго в плохое, из прекрасного в безобразное, из счастливого в несчастное; из лучшего в худшее. А кто захотел бы подвергнуться такому изменению? Смертные меняются естественно, бессмертные же должны навсегда оставаться неизменными. Бог никогда не согласился бы на такое изменение". Мыслящий эллин не мог и представить себе воплощение Бога, и считал совсем неправдоподобным, чтобы Тот, Кто страдал так, как Иисус, мог бы быть Сыном Божиим.
б) Эллины искали мудрости. Первоначально греческое слово софист означало мудрого человека в положительном смысле слова; но со временем оно приобрело значение человека с ловким умом и острым языком, своего рода интеллектуального акробата, обладающего способностью блестяще и красноречиво доказывать, что белое есть черное, а плохое - хорошее. Оно обозначало человека, проводящего бесконечные часы в обсуждении несущественных мелочей и совершенно не интересующегося решением вопроса, а лишь наслаждающегося "интеллектуальными экскурсами". Дион Хризостом так описывает греческих софистов: "Они квакают как лягушки в болоте. Они самые никчемные люди на земле, потому что, будучи невеждами, мнят себя мудрецами; подобно павлинам, они хвастают своей известностью и числом своих учеников, как павлины своими хвостами".
Мастерство, которым обладали древнегреческие краснобаи, пожалуй, даже нельзя и преувеличить. Плутарх говорит о них так: "Они услаждали свой голос каденциями модуляциями тонов, создавая отраженный резонанс". Их мысли были не о предмете разговора, а о том, как они говорили. Мысль их могла быть наполнена ядом, а речь медоточива. Филострат говорит, что софист Адриан пользовался в Риме такой славой, что когда становилось известно, что он будет говорить перед народом, сенаторы покидали сенат, а люди свои игры, и шли толпами слушать его.
Дион Хризостом изображает этих, так называемых, мудрецов и картину их состязаний в самом Коринфе на Истмийских играх: "Можно услышать массу ничтожных негодяев-софистов, кричащих и бранящих друг друга, учеников своих противников, спорящих по пустяковым предметам, большое число писателей, читающих свои тупейшие сочинения, множество поэтов, декламирующих свои поэмы, множество фокусников, демонстрирующих свои чудеса, прорицателей, толкующих значение знамений, десятки тысяч краснобаев, занимающихся своим ремеслом". Греки были, в буквальном смысле, отравлены красноречием, а христианские проповедники со своими прямыми и малопонятными проповедями казались им грубыми и необразованными, заслуживающими насмешек, а не уважения и внимания.
На фоне образа жизни эллинов и иудеев проповедь христианства имела, казалось, мало шансов на успех; но, как сказал Павел, "немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков".
ТОРЖЕСТВО УНИЧИЖЕННЫХ (1 Кор. 1,26-31)
Павлу приятно, что в основном церковь составлялась из простых и кротких людей. Но ни в коем случае не следует думать, что ранняя церковь состояла только из рабов. Из Нового Завета видно, что христианами становились и представители высших слоев общества. Это были, например, Дионисий в Афинах (Деян. 17,34), Сергий Павел, проконсул острова Крит (Деян. 13,6-12), дамы благородного происхождения в Фессалониках и Верии (Деян. 17,4,12), Эраст, городской казначей, вероятно в Коринфе (Рим. 16,23). Во времена Нерона Помпония Гречина, супруга Плавта, завоевателя Британии, приняла мученическую смерть за то, что была христианкой. При императоре Домициане, во второй половине первого века, принял мученическую смерть за христианство Флавий Клеменс, двоюродный брат императора. В конце второго века Плиний, правитель Вифинии, писал императору Траяну, что христиане находятся во всех слоях общества. Но все же большая часть христиан состояла из простого и скромного народа.
Приблизительно в 178 г. Цельс написал одно из самых резких когда-либо написанных сочинений против христианства. И он высмеял именно интерес простого народа к христианству. Он заявил, что христианская точка зрения, якобы, состоит в следующем: "Пусть не примет христианства ни один образованный, ни один мудрый или благоразумный человек, ибо их мы считаем злом; но если кто невежда, если кому недостает здравого смысла и культурного воспитания, если кто глуп - пусть он смело приходит к нам". О христианах же он писал: "Мы видим их в их домах: чесальщики шерсти, сукновалы и сапожники, самые необразованные и грубые люди". Он говорил, что христиане "подобны сонму летучих мышей или муравьев, выползающих из своих муравейников; они подобны лягушкам, собравшимся на философскую беседу вокруг болота".
Именно так говорили о христианстве. В Римской Империи было около шестидесяти миллионов рабов. Перед законом раб был "живым орудием", вещью, а не человеком. Хозяин мог выбросить старого раба, также как он выбрасывал старую лопату или мотыгу. Он мог развлекаться, истязая своих рабов, и мог даже убивать их. Для рабов не было законодательства о браке; как ягнята в стаде, их дети тоже принадлежали хозяину. Христианство превратило людей, являвшихся вещами, в истинных мужчин и женщин; более того, в сыновей и дочерей Бога. Оно придало тем, которых никто не уважал, чувство собственного достоинства. Оно давало жизнь вечную тем, не имел права распоряжаться собственной жизнью. Оно уверяло их, что, даже если они не значат ничего для света, они очень важны в глазах Бога. Оно свидетельствовало им, что, хотя они не представляют никакой ценности для других людей, Бог пожертвовал ради них Сына Своего единородного. Христианство было и остается самой возвышенной идеей во всем мире.
Павел завершает этот отрывок цитатами из Иеремии 9, 23-24. Как выразился Бультманн: самовосхваление, или жажда быть признанным - один из самых основных грехов. Истинная вера начинается лишь тогда, когда мы осознаем, что мы сами не можем свершить ничего, но что Бог может свершить все, и что Он свершает все. Поразительно, что, именно человек, сознавший свою слабость и недостатки своей мудрости, оказывается потом сильнее и мудрее. Опыт жизни показывает, что человек, полагающий, что он сам может совладать со всем, в конечном счете, терпит крушение.
Следует особо выделить четыре характерные особенности, приданные людям Христом:
1) Христос - наша премудрость. Лишь следуя за Ним мы можем идти прямо, и только слушая Его, слышим мы истину. Он воистину, Всевышний в жизни.
2) Христос - наша праведность. Во всех посланиях Павла праведность означает правильные отношения с Богом. Мы своими усилиями сами никогда не можем достичь ее. Мы обретаем ее, лишь осознав чрез Иисуса Христа, что она дана нам не за то, что мы сделали для Бога, но за то, что Он сделал для нас.
3) Христос - наше освящение. Лишь в присутствии Христа жизнь наша может стать той, чем она должна быть. Эпикур говаривал своим ученикам: "Живите так, будто бы Эпикур постоянно видел вас". Но в наших отношениях к Христу нет этого "как будто". Христианин всегда идет с Ним, и лишь тогда его одежда остается незапятнанной.
4) Христос - наше искупление. Диоген жаловался, что люди валом валят к глазным и зубным врачам, но никогда не идут к человеку, который мог бы вылечить их душу (он имел в виду философов). Иисус Христос может освободить человека от прошлого греха, избавить его от настоящей беспомощности и от страха перед будущим. Он освобождает человека от рабства своего "я" и от греха.
Комментарии (введение) ко всей книге «1-е Коринфянам»
Комментарии к главе 1
Фрагмент церковной истории, подобного которому нет. Вайзекер
Введение
I. ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КАНОНЕ
Первое послание к Коринфянам - это "книга проблем" в том смысле, что Павел рассматривает в нем проблемы ("Что же касается..."), которые стояли перед общиной в порочном городе Коринфе. В этом качестве книга особенно нужна сегодняшним церквам, раздираемым проблемами. Разделение, поклонение руководителям, как героям, безнравственность, споры о законе, проблемы брака, сомнительная практика и предписания о духовных дарах - все это здесь рассматривается. Однако было бы неверно думать, что вся книга посвящена проблемам! В этом же Послании есть самое прекрасное произведение о любви не только в Библии, но и во всей мировой литературе (гл. 13); замечательное учение о воскресении - и Христовом, и нашем (гл. 15); поучения о причастии (гл. 11); заповедь принимать участие в материальных пожертвованиях. Без этого Послания мы были бы намного беднее. Это сокровищница практического христианского учения.
Все ученые согласны, что названное нами Первoe послание к Коринфянам вышло из-под пера Павла. Некоторые (главным образом либеральные) исследователи полагают, что в письме есть некие "чужие вставки", но эти субъективные предположения не подкрепляются доказательствами-рукописями. 1 Коринфянам 5,9, видимо, ссылается на предыдущее (неканоническое) письмо Павла, которое было неправильно понято коринфянами.
Внешнее свидетельство в пользу 1 Коринфянам очень раннее. Климент Римский (около 95 г. н. э.) говорит о книге как о "послании благословенного апостола Павла". Книгу цитировали и такие ранние церковные авторы, как Поликарп, Юстин Мученик, Афенагор, Ириней, Климент Александрийский и Тертуллиан. Она входит в список канона Муратори и следует за Посланием к Галатам в еретическом каноне Маркиона "Апостоликон".
Внутреннее свидетельство также очень сильно. Помимо того, что автор сам называет себя Павлом в 1,1 и 16,21, его доводы в 1,12-17; 3,4.6.22 также доказывают авторство Павла. Совпадения с Деяниями и другими посланиями Павла и сильный дух искренней апостольской озабоченности исключают подделку и делают аргументы в пользу подлинности его авторства более чем достаточными.
III. ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ
Павел говорит нам, что пишет из Ефеса (16,8-9, ср. ст. 19). Поскольку он трудился там в течение трех лет, скорее всего, 1 Коринфянам было написано во второй половине этого продолжительного служения, то есть где-то в 55 или 56 г. н. э. Некоторые ученые датируют Послание даже более ранним сроком.
IV. ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ И ТЕМА
Древний Коринф находился (и находится) в южной Греции, к западу от Афин. Во времена Павла его расположение было выгодным: через город проходили торговые пути. Он стал крупным центром международной торговли, в него прибывало множество транспорта. Поскольку религия народа была извращенной, город вскоре превратился и в центр худших форм безнравственности, так что само название "Коринф" стало олицетворением всего нечистого и чувственного. Он пользовался репутацией города настолько распутного, что даже появился новый глагол "korinthiazomai", означавший "вести порочный образ жизни" .
Апостол Павел впервые посетил Коринф во время своего второго миссионерского путешествия (Деян. 18). Сначала он с Прискиллой и Акилой, которые, как и он, делали палатки, трудился среди иудеев. Но когда большинство иудеев отвергло его проповедь, он обратился к коринфским язычникам. Души спаслись проповедью Евангелия, и образовалась новая церковь.
Примерно через три года, когда Павел проповедовал в Ефесе, он получил из Коринфа письмо, сообщающее о серьезных проблемах, с которыми столкнулась община. В письме также были заданы разные вопросы о христианской жизни. В ответ на это письмо он и написал Первое послание к Коринфянам.
Тема Послания - как исправить мирскую и плотскую церковь, которая легкомысленно относится к тем умонастроениям, ошибкам и действиям, которые так тревожили апостола Павла. По меткому выражению Моффатта, "церковь была в миру, как и должно быть, но мир был в церкви, чего быть не должно".
Поскольку такая ситуация до сих пор не редкость в некоторых общинах, значение Первого послания к Коринфянам остается непреходящим.
План
I. ВСТУПЛЕНИЕ (1,1-9)
А. Приветствие (1,1-3)
Б. Благодарение (1,4-9)
II. НЕУРЯДИЦЫ В ЦЕРКВИ (1,10 - 6,20)
А. Разделения среди верующих (1,10 - 4,21)
Б. Безнравственность среди верующих (Гл. 5)
В. Тяжбы между верующими (6,1-11)
Г. Нравственная распущенность среди верующих (6,12-20)
III. ОТВЕТ АПОСТОЛА НА ВОПРОСЫ О ЦЕРКВИ (Гл. 7 - 14)
А. О браке и безбрачии (Гл. 7)
Б. Об идоложертвенных яствах (8,1 - 11,1)
В. О покрывале для женщин (11,2-16)
Г. О Вечере Господней (11,17-34)
Д. О дарах Духа и их использовании в Церкви (Гл. 12 - 14)
IV. ОТВЕТ ПАВЛА ОТРИЦАЮЩИМ ВОСКРЕСЕНИЕ (Гл. 15)
А. Несомненность воскресения (15,1-34)
Б. Опровержение доводов против воскресения (15,35-57)
В. Заключительный призыв в свете воскресения (15,58)
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ (Гл. 16)
А. О сборах (16,1-4)
Б. О своих личных планах (16,5-9)
В. Заключительные наставления и приветствия (16,10-24)
I. ВСТУПЛЕНИЕ (1,1-9)
А. Приветствие (1,1-3)
1,1 На пути в Дамаск Павел был призван стать апостолом Иисуса Христа . Этот призыв исходил не от людей, не через людей, а непосредственно от Господа Иисуса. "Апостол" буквально означает "посланный". Первые апостолы были свидетелями воскресения Христа. Они также могли творить чудеса в подтверждение того, что проповедуемая ими весть исходит от Бога. Павел действительно мог бы повторить слова Герхарда Терстигена: Христос, Сын Божий, шлет меня В полуночные земли. Я принял посвященье в сан Из рук Его пронзенных.
Когда Павел писал, с ним рядом находился брат Сосфен, поэтому Павел включает его имя в приветствие. Нельзя сказать наверняка, тот ли это Сосфен, который упоминается в Деяниях (18,17) - начальник синагоги, публично избитый греками. Возможно, этот начальник был спасен проповедью Павла и теперь помогал ему в благовествовании.
1,2 Письмо адресовано прежде всего Церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Радует и вдохновляет тот факт, что на земле нет такого безнравственного места, где было бы невозможно основать общину, принадлежащую Богу. Церковь в Коринфе далее описывается как освященные во Христе Иисусе, призванные святые. "Освященные" - здесь "обособленные от мира для Бога"; этим словом характеризуется положение всех принадлежащих Христу. Что касается практического состояния , они должны сами обособлять себя, живя свято изо дня в день.
Некоторые утверждают, что освящение - это особое действие благодати, искореняющее греховную природу человека. Этот стих опровергает такое учение. Коринфские христиане были далеки от практической святости, которая должна проявляться в жизни верующего, но факт остается фактом: они занимали положение освященных Богом.
Как святые, они были членами великого братства: призванные святые, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Хотя наставления в этом Послании адресованы святым Коринфа, они предназначаются также всем членам всемирного братства, признающим Христа Господом.
1,3 Первое послание к Коринфянам - это в особом смысле письмо о господстве Христа. Обсуждая многочисленные проблемы в жизни общины и отдельных людей, апостол постоянно напоминает читателям, что Иисус Христос - это Господь и осознание этой великой истины должно сопровождать все, что мы делаем.
Стих 3 представляет собой характерное для Павла приветствие. В словах "благодать и мир" он кратко излагает все Евангелие. Благодать - источник всякого блага, а мир - результат принятия благодати Божьей, наполняющий жизнь человека. Эти великие благословения исходят от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Павел без запинки, на одном дыхании упоминает Господа Иисуса рядом с Богом Отцом нашим. Это одно из сотен подобных выражений в НЗ, где подразумевается равенство Господа Иисуса с Богом Отцом.
Б. Благодарение (1,4-9)
1,4 Закончив приветствие, апостол переходит к благодарению за коринфян и за удивительную Божью работу, проявившуюся в их жизни (ст. 4-9). Благородной чертой в жизни Павла было его постоянное желание найти в жизни его братьев-верующих что-то, достойное благодарения. Если их практическая жизнь не особенно заслуживала похвалы, он, по меньшей мере, благодарил Бога за то, что Тот сделал для них. Здесь именно такой случай. Коринфяне не были, как мы сказали бы, духовными христианами. Но Павел все же может поблагодарить за благодать Божью, дарованную им во Христе Иисусе.
1,5 Дарованная коринфянам Божья благодать особенно проявилась в том, что они были щедро наделены дарами Святого Духа. Павел отмечает дар слова и всякого познания; это, видимо, означает, что коринфяне получили дар языков, толкования языков и исключительные познания. Слово связано с внешним выражением, а познание - с внутренним пониманием.
1,6 Факт обладания этими дарами подтверждал, что Бог совершает Свою работу в их жизни, и Павел имел это в виду, когда говорил: "...ибо свидетельство Христово утвердилось в вас". Они слышали свидетельство Христово, они получили его по вере, и Бог засвидетельствовал, что они воистину спасены, дав им эти чудесные возможности.
1,7 В обладании дарами коринфская церковь не уступала никакой другой. Но простое обладание дарами само по себе не было признаком истинной духовности. В действительности Павел благодарил Бога за то, за что сами коринфяне непосредственно не отвечали. Дары ниспосылает вознесшийся Господь безотносительно собственных заслуг человека. Если у человека есть какой-то дар, он должен не гордиться им, а смиренно использовать для Господа.
Плоды Духа - нечто совершенно иное. Здесь важно то, насколько человек подчинил себя контролю Святого Духа. Апостол мог похвалить коринфян не за проявление в их жизни плодов Духа, а только за то, что Господь даровал им Своей властью и над чем они не имели никакого контроля. Далее в этом Послании апостолу придется обличать святых за злоупотребление этими дарами, но здесь он изъявляет благодарность за то, что они получили эти дары в столь необычной мере.
Коринфяне ожидали явления Господа нашего Иисуса Христа. Исследователи Библии расходятся во мнениях, относится ли это к пришествию Христа за святыми (1 Фес. 4,13-18), к пришествию Господа со святыми (2 Фес. 1,6-10) или и к тому и другому. В первом случае Христос явится только верующим, тогда как во втором Он явится всему миру. Верующий с горячим желанием ожидает и восхищения, и славного явления Христа.
1,8 Павел выражает уверенность в том, что Господь и утвердит святых до конца, чтобы они могли быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. И вновь поражает, что Павел благодарит за то, что сделает Бог, а не за то, что сделали коринфяне. Поскольку они доверились Христу, а Бог подтвердил это, наделив их дарами Духа, Павел был уверен, что Бог сохранит их для Себя, пока Христос не придет за Своим народом.
1,9 Оптимизм Павла в отношении коринфян основан на верности Бога, Который призвал их в общение Сына Его. Он знает, что Бог заплатил большую цену, чтобы они смогли стать причастными жизни Господа нашего, и потому никогда не позволит им выскользнуть из Его рук.
II. НЕУРЯДИЦЫ В ЦЕРКВИ (1,10 - 6,20)
А. Разделения среди верующих (1,10 - 4,21)
1,10 Теперь апостол готов приступить к обсуждению проблемы азделений в церкви (1,10 - 4,21). Он начинает с любовного увещания, призывая к единтву. Вместо того чтобы приказывать с властью апостола, он умоляет с мягкостью брата. В основе призыва к единству - имя Господа нашего Иисуса Христа, и поскольку имя означает Личность, в основе призыва - все, кем является Господь Иисус, и все, что Он сделал. Коринфяне превозносили имена человеческие; это вело только к разделениям. Павел будет превозносить лишь имя Господа Иисуса, зная, что это единственный путь к единству среди детей Божьих. Говорить одно - значит быть соединенными в одних мыслях, пребывать в согласии. Это подразумевает единение в верности и преданности. Такое единство возможно, когда христиане мыслят, как Христос. В следующих стихах Павел расскажет, как на деле они могут думать так же, как Христос.
1,11 Новость о спорах в Коринфе дошла до Павла через домашних Хлоиных. Называя своих информаторов, Павел закладывает здесь важный принцип христианского поведения. Мы не должны распространять известия о наших братьях-верующих, если не хотим, чтобы при этом упоминалось наше имя. Следование этому примеру сегодня предотвратило бы праздные сплетни - бич Церкви наших дней.
1,12 В поместной церкви возникали секты или группировки, каждая из которых провозглашала кого-то своим лидером. Одни отдавали предпочтение Павлу, другие Аполлосу, третьи Кифе (Петру). Некоторые даже утверждали, что принадлежат Христу, видимо, имея в виду, что, в отличие от всех остальных, только они принадлежат Ему!
1,13 В стихах 13-17 Павел с негодованием осуждает сектантство. Образование в Церкви группировок отрицало единство Тела Христа. Следовать за вождями-людьми - значит пренебрегать Тем, Кто был распят за них. Называться именем человека - значит забыть, что крещением они подтвердили свою преданность Господу Иисусу.
1,14 Рост числа группировок в Коринфе вынудил Павла благодарить Бога за то, что он крестил только некоторых из тамошней общины. Среди тех, кого он крестил, Павел называет Криспа и Гаия.
1,15-16 Он не хотел бы, чтобы кто-либо сказал, что он крестил в свое собственное имя. Другими словами, он не старался привлечь к себе обращенных или сделать себе имя. Его единственная цель - указать людям на Господа Иисуса Христа. По дальнейшем размышлении Павел вспомнил, что крестил также Стефанов дом, но не припоминает, крестил ли еще кого.
1,17 Он объясняет, что в первую очередь Христос послал его не для того, чтобы крестить, а чтобы благовествовать. Это ни в коей мере не означает, что Павел не верил в крещение. Он уже назвал имена некоторых из крещенных им. Скорее это означает, что крещение не было его основным делом; вероятно, он доверил эту работу другим, может быть, некоторым христианам в поместной церкви. Однако этот стих свидетельствует против мнения, утверждающего, что крещение существенно для спасения. Если бы это было верно, Павел выразил бы здесь благодарность за то, что не спас ни одного из них, за исключением Криспа и Гаия! Такое предположение несостоятельно.
В последней части стиха 17 Павел легко переходит к следующим стихам. Он благовествует не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Он знал, что насколько его ораторское искусство, или риторика, произвело на людей впечатление, именно настолько он потерпел поражение в своей попытке поместить на первый план истинное значение креста Христова.
Мы сможем лучше понять следующие стихи, если будем помнить, что коринфяне, как греки, очень ценили человеческую мудрость. Они относились к своим философам как к народным героям. Видимо, в какой-то мере этот дух проник и в коринфскую общину. В ней нашлись желающие сделать Евангелие более приемлемым для интеллигенции. Считая, что в ученой среде оно не принимается всерьез, они хотели сделать весть более интеллектуальной. Видимо, такое поклонение интеллектуальности и было одной из причин, обусловивших возникновение группировок вокруг человеческих авторитетов. Попытки сделать Евангелие более приемлемым - абсолютное заблуждение. Божья мудрость существенно отличается от мудрости человеческой, и нет смысла пытаться примирить их.
Павел показывает, как глупо превозносить людей, и подчеркивает, что это несовместимо с истинной природой Евангелия (1,18 - 3,4). Прежде всего он отмечает, что слово о кресте противоположно всему тому, что люди считают истинной мудростью (1,18-25).
1,18 Слово о кресте для погибающих юродство есть. По удачному выражению Барнса, "смерть на кресте ассоциировалась с представлением обо всем позорном и бесчестном; и весть о спасении только через страдания и смерть распятого человека могла вызвать в их сердцах только полное презрение". (Albert Barnes, Notes on the New Testament, 1 Corinthians, p. 14.)
Греки любили мудрость (буквальное значение слова "философия"). Но в Благой Вести не было ничего привлекательного для их упоения знанием.
Для спасаемых Евангелие - это сила Божья. Они слышат весть, принимают ее верой, и в их жизни происходит чудо духовного возрождения. Обратите внимание на торжественное утверждение этого стиха: есть только два класса людей - погибающие и спасенные. Никакой середины нет. Люди могут любить свою человеческую мудрость, но только Евангелие ведет к спасению.
1,19 То, что Евангелие будет выступать против человеческой мудрости, предсказывал еще Исаия (29,14): "Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну". С. Льюис Джонсон в "Уайклиффских комментариях к Библии" замечает, что в контексте "эти слова - Божье осуждение политики "мудрецов" Иудеи, которые искали союза с Египтом, чтобы противостать угрозе со стороны Сеннахирима". (S.Lewis Johnson, "First Corinthians", The Wycliffe Bible Commentary, p. 1232.) Как верно то, что Богу доставляет удовольствие достигать Своих целей способами, которые кажутся людям глупыми. Как часто Он использует методы, которые мудрецы мира сего высмеяли бы, но которые, тем не менее, достигают желаемого результата с удивительной точностью и эффективностью. Например, человеческая мудрость убеждает людей в том, что они могут заслужить или заработать свое спасение. Евангелие отметает все человеческие усилия спасти себя и представляет Христа как единственный путь к Богу.
1,20 Далее Павел бросает дерзкий вызов: "Где мудрец? где книжник? Где совопросник века сего?" Консультиро вался ли с ними Бог, когда задумывал Свой план спасения? Смогли бы они вообще выработать такой план искупления, если бы руководствовались собственной мудростью? Могут ли они опровергнуть что-либо из сказанного Богом? Ответ на это - категорическое "нет!" Бог обратил мудрость мира сего в безумие.
1,21 Человек не может своей собственной мудростью познать Бога. На протяжении веков Бог давал человечеству такую возможность, но результатом всегда была неудача. Затем благоугодно было Богу проповедовать крест, чтобы спасти верующих, и проповедь эта казалась людям глупостью. Под юродством проповеди подразумевается крест. Конечно, мы знаем, что это не юродство и не глупость, но непросвещенному человеческому разуму это кажется глупостью. Годет сказал, что стих 21 вмещает всю философию истории, содержание целых томов. Не следует в спешке проноситься мимо него, нужно глубоко задуматься о его великих истинах.
1,22 У иудеев вошло в обыкновение требовать чудес. Они стояли на такой позиции: поверим, если нам покажут чудо. В свою очередь, еллины (греки) искали мудрости. Их интересовали человеческие рассуждения, аргументы, логика.
1,23 Но Павел не стал угождать их желаниям. Он говорит: "Мы проповедуем Христа распятого". Как кто-то сказал, "он не был любящим знамения иудеем или любящим мудрость греком, но любящим Спасителя христианином".
Для иудеев распятый Христос был соблазном. Они ожидали могущественного полководца, который освободил бы их от римского гнета. Вместо этого Евангелие предложило им Спасителя, пригвожденного к позорному кресту.
Для еллинов распятый Христос был безумием. Они не могли понять, каким образом Тот, Кто умер, как им казалось, таким слабым и неудачливым, вообще мог решить их проблемы.
1,24 Как ни странно, но именно то, чего искали иудеи и язычники, удивительным образом можно найти в Господе Иисусе. Для тех, кто слышит Его призыв и доверяется Ему, для иудеев и еллинов, Христос становится Божьей силой и Божьей премудростью.
1,25 На самом деле в Боге нет ни слабости, ни глупости. В стихе 25 апостол говорит, что кажущееся немудрым у Бога (на взгляд человека) на самом деле премудрее человеков в лучших их проявлениях. И то, что кажется немощным Божьим, оказывается сильнее, чем все, что могут сделать люди.
1,26 Поговорив о самом Евангелии, апостол обращает взор на тех, кого Бог призывает Евангелием (ст. 26-29). Он напоминает коринфянам, что среди призванных не много мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. Часто подчеркивается, что в тексте не сказано "ни одного", а сказано "не много". Это небольшое различие позволило одной благородной английской леди свидетельствовать, что она спасена одним словом.
Сами коринфяне не принадлежали к интеллектуальной верхушке общества. Их пленила не напыщенная философия, а простое Евангелие. Почему же тогда человеческая мудрость была у них в таком почете? Почему они превозносили проповедников, старавшихся сделать весть приемлемой для житейской мудрости?
Если люди хотели строить молитвенный дом, они старались привлечь самых видных членов своего общества. Но стих 26 учит нас, что Бог проходит мимо тех, кого люди ценят высоко. Обычно Он призывает не тех, кого превозносит этот мир.
1,27 Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Как говорит Эрих Зауэр, "чем примитивнее материал, тем выше почести мастеру (если достигнут тот же уровень в искусстве); чем меньше армия, тем большего (если одержана столь же великая победа) восхваления заслуживает завоеватель". (Erich Sauer, The Dawn of World Redemption, p. 91.)
Бог избрал трубы, чтобы разрушить стены Иерихона. Он сократил армию Гедеона с 32 000 человек до 300, чтобы обратить в бегство войска мадианитян. Он дал Самегару воловий рожон для избиения филистимлян. Он исполнил Самсона силой победить целое войско ослиной челюстью. И еще наш Господь накормил более пяти тысяч всего лишь несколькими хлебами и рыбами.
1,28 Завершая перечень, который кто-то назвал "пять чинов в Божьей армии безумцев", Павел добавляет незнатное мира и уничиженное и ничего не значущее. Используя такой неподходящий материал, Бог упраздняет значущее. Другими словами, Он любит принимать людей, незначительных в глазах мира, чтобы прославить Себя. Эти стихи должны прозвучать укором для христиан, которые заискивают перед знатными и известными и не обращают внимания на более скромных Божьих святых.
1,29 Бог избирает незначащих для мира только с той целью, чтобы вся слава принадлежала Ему, а не человеку. Спасение - дело только Его рук, и Он один достоин хвалы.
1,30 Стих 30 еще больше подчеркивает, что все, кем мы являемся, и все, чем мы обладаем, исходит от Него - не от философии, и поэтому человеку нечем похвалиться. Во-первых, Христос сделался для нас премудростью.
Он - Божья премудрость (ст. 24), Тот, Кого мудрость Божья избрала как путь спасения. Имея Его, мы по самому своему положению имеем мудрость, гарантирующую наше полное спасение. Во-вторых, Он - наша праведность. По вере в Него мы считаемся праведными перед святым Богом. В-третьих, Он - наше освящение. Сами мы ничего не можем сделать для собственной святости, но в Нем мы освящены по положению, и Его силой мы преображаемся от одной ступени освящения к другой. Наконец, Он - наше искупление; здесь, несомненно, говорится об окончательном искуплении, когда Господь придет и возьмет нас домой, где мы будем с Ним, и будут искуплены наши и дух, и душа, и тело.
Трейлл четко определяет истину:
"Мудрость вне Христа - это пагубное безумие; праведность вне Христа - это вина и осуждение; освящение вне Христа - это грязь и грех; искупление вне Христа - это зависимость и рабство". (Robert Traill, The Works of Robert Traill, Vol. 2, Edinburgh: Banner of Truth Trust, reprinted 1975, p. 234.)
А. Т. Пиерсон связывает стих 30 с жизнью и служением нашего Господа:
"Его дела, Его слова, Его поступки показывают, что Он - мудрость Божья. Затем Его смерть, погребение и воскресение: они связаны с нашей праведностью. Затем Его сорокадневное хождение среди людей, Его вознесение, после чего Он ниспослал Духа и воссел одесную Бога, - это связано с нашим освящением. И, в завершение, Его пришествие, связанное с нашим искуплением. (Arthur T. Pierson, The Ministry of Keswick, First Series, p. 104.)
1,31 Бог определил, чтобы все эти блага были дарованы нам в Господе. Поэтому Павел убеждает: "К чему славить людей? Они не смогут сделать для вас ничего из вышеперечисленного".
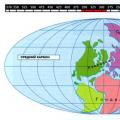 павел глоба. авестийская астрология. Зороастризм. Предзнаменования для Дмитрия Медведева. М Нострадамус Загадки и тайны Антарктиды
павел глоба. авестийская астрология. Зороастризм. Предзнаменования для Дмитрия Медведева. М Нострадамус Загадки и тайны Антарктиды Храмы в кхаджурахо символ мироздания
Храмы в кхаджурахо символ мироздания Как приготовить хворост в домашних условиях: вкусные и легкие рецепты
Как приготовить хворост в домашних условиях: вкусные и легкие рецепты