В немецком плену, побег и скитания по украине письмо красноармейца александра шапиро. Немецкий плен. трагедия советских военнопленных Воспоминания о плене 1941 солдат невозвращенцев
Ох, да попал солдат
В полон к ворогам...
Из старинной песни
1
Вечером 8 сентября 1941 года, когда солнце уже коснулось горизонта, я сделал первые шаги в сторону черной неизвестности. Со мной в напарниках пошел мой наводчик Иван Завгородний, родом из Тамбовской области. Нашим главным желанием было пересечь примерно трехкилометровой ширины луг и войти в лес, где и укрыться на какое‐то время, а уж потом, сориентировавшись как следует, искать местных партизан или же продвигаться на восток, в сторону линии фронта. Но желание это было чисто умозрительным, а поступками нашими двигал больше всего страх, главным порождением которого явилась утрата воли и здравого смысла. Да и неоднократно выручавший меня инстинкт самосохранения был в значительной степени парализован, только, может быть, не страхом, а измотавшей меня усталостью и апатией.
Что же касается здравого смысла, то он вообще куда‐то исчез. Судите сами: уходя в неизвестность, я не взял с собою ни шинели, ни плащ-палатки, ни даже котелка, а вокруг уже осень начиналась. При мне была моя винтовка ВГ-3615 с трехгранным штыком [ ВГ-3615 - вероятно, заводской номер винтовки. На вооружении Красной армии в то время состояли в основном трехлинейные винтовки Мосина образца 1891 / 1930 гг., которые выпускалась с четырехгранным штыком. Указание на трехгранные штыки скорее всего произошло из‐за аберрации памяти автора: они применялись в русской армии до второй половины XIX в. с винтовками Бердана, позднее были заменены на четырехгранные - как более технологичные в изготовлении. Самозарядные винтовки Токарева и Симонова, которых во время войны было немного, комплектовались клинковыми (ножевыми) штыками. ] , пехотная лопатка в брезентовом футляре и ручная граната, все это висело у меня на солдатском ременном поясе, а на мне самом - каска, надетая на пилотку, хлопчато-бумажная гимнастерка, насквозь пропитанная потом, такие же брюки-полугалифе и кирзовые сапоги 43‐го размера, выданные мне вместе с брюками десять дней назад, когда мне осколком немецкой мины поцарапало голень правой ноги. Царапина еще не зажила, но и не беспокоила особенно. Остается еще добавить, что взрыватель от гранаты находился у меня в нагрудном кармане гимнастерки, в патронташе было двадцать патронов да еще пять - в винтовочном магазине и в стволе, а в голенище правого сапога - алюминиевая ложка.
Примерно так же был одет и вооружен и Иван Завгородний, только он не забыл прихватить с собой плащпалатку.
Выйдя из прибрежного мелколесья на луг, мы увидели в лучах заходящего солнца рассыпавшиеся по нему мелкие группки наших солдат, двигавшихся в том же направлении, куда решили пробраться и мы. Дойдя до первой копны сена, я совершил поступок, свидетельствовавший о том, что со здравым смыслом я в тот злополучный час оказался и в самом деле не в ладах: я засунул вглубь копны не только все бывшие при мне документы, но и тот пластмассовый пенальчик, где хранилась свернутая в трубочку бумажка со всеми необходимыми сведениями обо мне (по‐моему, Иван Завгородний сделал то же самое).
Зачем я это сделал? Да, наверное, я все‐таки допускал возможность быть захваченным в плен и потому заранее решил, что своего подлинного имени немцам не назову. Почему? А опасался, что если о моем пленении станет известно нашим властям, то родичам моим будет не сдобровать: приказ Сталина 270 [ Имеется в виду приказ No 270 Ставки Верховного Главного командования Красной армии, изданный 16 августа 1941 г. и подписанный лично И. В. Сталиным, запрещал солдатам Красной армии сдаваться в плен. ] я помнил хорошо.
Понимаю, что на мое объяснение явно бессмысленного поступка само собой напрашивается неопровержимое возражение: ведь моя ссылка на якобы имевший место разлад со здравым смыслом не выдерживает даже самой доброжелательной критики, ибо поступок этот вовсе и не бессмысленный.
Что ж, возражение это настолько серьезное, что оставить его без внимания никак нельзя. И потому я, продолжая настаивать на своем, привожу куда более убедительный довод в подтверждение не рядовой, или будничной, а смертельно опасной бессмыслицы, какую я себе тогда позволил. Ведь шли‐то мы с Иваном Завгородним не в плен сдаваться, а хотели к своим пробиться, потому и оружие с боеприпасами при себе имели, и никому из нас и в голову не пришло бросить оружие. И вот допустим, что к своим мы пробрались. А у нас первым делом документы потребовали бы в подтверждение того, что мы именно те, за кого себя выдаем, а не шпионы, врагом подосланные. Ну, а поскольку документы предъявить мы не смогли бы, с нами вполне возможно было поступить в соответствии с законами военного времени, статью для вынесения самого сурового приговора найти не затруднились бы.
Сегодня вспоминая об этом, утешаюсь лишь тем, что не я один так поступил. Слабое, конечно, утешение: ведь я, будучи живым, отказался от самого себя. Из-за страха перед черной неизвестностью отказался. А разве это допустимо - от себя отказываться? Но если я позволил себе такое, значит, причины были не только во мне. Нет, этим утверждением я нисколько себя не оправдываю и вовсе не хочу перекладывать свою вину на кого‐то другого, ибо это прежде всего моя вина, и я всю жизнь думаю, как бы искупить ее - перед людьми и перед совестью своей, но сумею ли искупить ее до конца - в этом я не уверен, как не уверен и в том, что ее искупить возможно.
От той копны мы двинулись дальше в сторону леса. Но когда вошли в мелкий кустарник, с той стороны, куда мы двигались, резанули очереди немецких автоматов и вокруг нас засвистели, плюхаясь в землю, пули. Мы залегли, притаились. А вскоре со стороны луга, который мы только что миновали, послышались голоса немецких солдат. Видеть немцев в сгустившихся сумерках мы не могли, но отчетливо различали отдельные слова, которые они выкрикивали друг другу, чтобы поддерживать взаимное общение. Чувствовалось по их вскрикам, что, шагая по чужой земле, они изо всех сил стремились сбросить с себя наваждение страха за собственные жизни, вот и взбадривали себя, посекундно взывая к впереди и позади идущим.
Страхом заледенило и мою душу, когда я слушал гогот и гвалт чужих голосов, напоминающий неистовый лай спущенной с цепи своры псов. Страхом и сознанием своей беспомощности перед неведомой силой, готовой безжалостно раздавить на своем пути все живое.
Галдеж и гогот немцев, продвигавшихся по лугу в сторону Чернигова, продолжался более часа, так что трудно было представить, сколько их. А когда их гогот и гвалт заглохли, поглощенные расстоянием, впереди нас, вероятно, по кромке леса, в котором мы предполагали укрыться, поползли от села Гущино в сторону Чернигова то ли танки, то ли грузовые автомобили, и рокот их моторов заглушил все другие звуки наступившей ночи. Но вот рокот утих, и мы с Иваном двинулись было опять в сторону леса, но оттуда снова затрещали автоматы, и вокруг нас зашмякали пули.
Давай отроем окопчик, хорошо его замаскируем, перекроем ветками кустов, поверх них дернину уложим, оставим маленькую отдушину, влезем через нее внутрь блиндажика, а при надобности и вылезем из него... Пару дней проваляемся здесь, а потом двинем дальше...
Так ответил Иван на мой вопрос.
Ну что ж, - согласился я, - ничего лучшего, пожалуй, в нашем положении придумать невозможно, а раз так, то приступаем к делу...
2
До самого утра трудились мы в поте лица, сооружая для себя временное убежище. Где‐то заполночь поднялась над горизонтом полная луна и облегчила нашу работу тем, что вполне прилично осветила близлежащие кусты, среди которых мы выискали ветки потолще и, срубая их лопатами, укладывали поперек будущего блиндажика, а ветки помельче набрасывали охапками поверх крупных и присыпали их землей, а уж поверх земли укладывали пласты дерна, нарезанные лопатами под ближайшими кустами.
Уснули мы, устлав дно своего блиндажика мелкими ветками, уже на рассвете. Не уснули, а будто провалились куда‐то в небытие. А сколько проспали, точно сказать не могу, но проснулся я оттого, что сквозь сон уловил какую‐то опасность: сквозь шорох ветра в окружавших наше убежище кустах расслышал я еще какие-то глухие звуки, - сперва вроде бы шаги, а потом и голоса. Чья‐то нога наступила на наш блиндажик, и на нас посыпались струйки земли. А через секунду через наш лаз-отдушину послышался спокойный, без малейшего намека на озлобление, усталый голос: «Русс, аусштайген!..», что означало: «Русский, вылезай!..»
И с этого вот «Русс, аусштайген!..» и началась для меня черная неизвестность, продлившаяся 1338 дней и ночей.
Сдаемся! - крикнул из нашей норы Иван Завгородний и первым вылез наружу.
Вслед за Иваном вылез и я, положил у ног немцев свою винтовку и поднял руки. Нас обыскали. Позволили справить нужду, а сами отвернулись и закурили. Немцев, взявших нас в плен, было человек пять. Один из них, самый высокий и сильный, на наших глазах поломал наши винтовки - жахнул дважды прикладами о землю, держа винтовку за край ствола, и, отделив ствол от приклада, разбросал их в разные стороны. Без всякой злобы он это сделал, будто колоду дровяную надвое колуном распластал. На нас немцы не кричали и не ругались. А я тогда подумал: может быть, потому не кричат и не ругаются, что подведут сейчас к опушке леса, куда нам так хотелось вчера пробраться, да и уложат там навсегда.
Но немцы, прочесавшие весь кустарник, в котором мы скрывались, повели нас не к лесу, а в сторону Чернигова.
А в противоположную сторону, как я заметил, вернулась другая группа немцев, прочесывавшая тот же массив кустарника от села Пущино. Один из немцев, с велосипедом в руках, подозвал меня и велел взять велосипед. Я подумал, что он хочет проверить, умею ли я ездить на велосипеде, и хотел было, поставив левую ногу на педаль, разогнать его и сесть, но немец сказал «найн» и, надавив пальцами шины, дал мне понять, что ехать на нем нельзя, прокол в камерах, и знаками разъяснил, что велит вести велосипед руками. И я повел, Иван Завгородний шагал рядом, а немцы позади нас о чем‐то между собой переговаривались.
Значит, на месте захвата они нас не уложили, но где‐то все‐таки, наверное, уложат? - проговорил тихо Иван.
Кто знает, что у них за порядок?.. Может быть, по одному да по двое не укладывают, а сразу сотнями? - так же тихо отозвался я.
В отличие от предшествующего, день 9 сентября 1941 года выдался пасмурный, но теплый: даже в одной гимнастерке я не ощущал прохлады, - чуть накрапывал ленивый, мелкий дождик, впрочем, не столько дождик, сколько теплая туманная морось, - погода словно оплакивала нашу погибель.
Километра через полтора от того места, где нас захватили, немцы, выполняя поданную команду, остановились и нам велели остановиться. Расселись прямо на траве, достали из своих ранцев хлеб и маленькие жестяные коробочки с мясным паштетом и принялись за еду. Глядя на них, неторопливо, но с аппетитом жующих, я с удивлением подумал, почему это мне совсем не хочется есть, и сразу же понял, почему: о еде ли думать, когда не знаешь, сколько тебе осталось жить.
Давай все‐таки спросим, когда нас кокнут, - сказал Иван.
Хорошо, я сейчас попробую, - ответил я и тут же, собрав весь свой запас немецких слов, обратился к самому спокойному и самому интеллигентному на вид немцу.
А тот, ничуть не изменив выражения своего лица, ответил невозмутимо, что, мол, для вас война окончена и всех вас отправят в германский тыл на работу.
Когда я перевел Ивану ответ немца, тот проговорил:
Да заливает он, чтобы успокоить нас... Им же о таком не велено, наверное, говорить.
Я тоже не очень‐то поверил немцу, потому что пребывал в таком состоянии, хуже которого, наверное, не бывает, - апатия, равнодушие, безразличие ко всему на свете парализовали мою душу, не хотелось никому и ничему верить, не возникало желания и положиться на какую‐то надежду. Наиболее точно тогдашнее мое настроение можно было бы выразить тремя словами: будь, что будет...
3
А мелкая туманная морось продолжала свое тихое, незаметное дело, - пропитывая влагой высушенный солнцем и ветром предыдущих дней воздух, она будто бы и впрямь оплакивала нас, павших вчера, но оставшихся в живых, чтобы нынче, и завтра, и в бесконечной череде грядущих дней влачить в себе и на себе ярмо позорной неволи. Тяжкое само по себе, оно обрушилось на наши души двойной, а может, и тройной тяжестью от сознания, что с того самого момента, как мы оказались в руках врагов, будучи поверженными и обезоруженными, государство, которое мы защищали и на верность которому присягали, от имени Родины отринуло и отвергло нас, послав вослед проклятье и заочно пометив клеймом изменников.
Зная, что мечен этим несмываемым клеймом, способен ли ты будешь, пока идет война с врагом, который взял тебя в полон и бросил, как и полагается, за колючую проволоку, - способен ли ты будешь настолько воспрянуть духом, чтобы хватило сил вытряхнуть из души своей тяжкой свинцовой пылью пропитавшее ее оцепенение и, облегчив ее таким образом, рвануть в запредельную даль, туда, где твоя Родина, без которой нет для тебя полнокровной жизни? Способен ли ты будешь совершить такой рывок, не будучи уверенным в том, что Родина не только великодушно простила тебя за твое самоотверженное возвращение и вновь, без всяких унизительных для тебя оговорок готова вручить оружие и благословить на новые
битвы с врагом, которого ты, побывав у него в плену, настолько хорошо узнал, что уж во второй раз в руки ему живьем не дашься?
Эти мысли начали бередить мне душу с того самого момента, как только я услышал от интеллигентного вида немца ответ на вопрос, когда с нами покончат. И дело не в том, поверил я немцу или не поверил, а в том, что его должный стать успокоительным ответ нисколько меня не успокоил, да и не мог успокоить. По той причине не мог успокоить, что обещанное немцем сохранение моей жизни не воспринималось мною как ее продолжение, потомо что жизни как таковой, жизни привычной и приемлемой для себя я в том положении, в каком я только что очутился, не представлял и представить не мог, как не мог тогда понять и того, что для ощущения - не жизни, нет, а хотя бы какого‐то подобия ее - понадобится очень длительное время, а восприятие длительности времени стало для меня в тот день просто недоступным, ибо оно, время, для меня остановилось.
И это ощущение остановившегося времени, начавшее пробиваться из глубин моего подсознания с того момента, когда мы утопили в Десне свои минометы и когда немцы стали обстреливать нас с левого берега Десны, и полностью овладевшее моим сознанием, как только немцы, велев мне и Ивану Завгороднему вылезти из своего жалкого убежища, тут же на наших глазах сломали наши винтовки, - это ощущение остановившегося времени надолго, очень надолго парализовало мою волю к жизни и повергло душу в состояние длительной апатии.
Нет, не скажу, что мне хотелось обязательно и немедленно умереть, - если бы такое желание мной овладело, исполнить его не составило бы никакого труда, стоило лишь изобразить попытку к бегству, и очередь в спину из немецкого автомата это желание исполнила бы незамедлительно. Но мне и жить не хотелось, и потому я возможность расстрела, которого мы с Иваном Завгородним ждали от немцев, воспринимал как должное, и если бы это случилось, я принял бы его, по всей вероятности, без внешнего протеста, так как считал для себя такой протест не просто бессмысленным, но и унизительным: смерть от вражеской пули, что о ней ни думай, вовсе не позорна.
Однако в тот день, когда время для меня остановилось, жизнь, тем не менее, продолжалась, и даже меня, переставшего на что‐либо надеяться, она оградила от смерти, что поджидала многих из нас всего через каких‐нибудь пять-шесть недель. И среди многих неизвестных наших солдат непременно лежать бы и мне, если бы не Человек, ставший моим спасителем, моим ангелом-хранителем. К стыду своему, я даже не узнал имени этого Человека, - так я был подавлен всем случившимся с нами.
Расскажу, однако, все по порядку. Где‐то во второй половине дня немцы привели нас в село и загнали в колхозную конюшню. Конюшню не закрыли, но вокруг ее ограды расставили автоматчиков. У самого входа в конюшню, когда нас с Иваном Завгородним подвели к ней, стоял молодой Человек в командирской шинели и в фуражке, - по всей вероятности, старшина сверхсрочной службы, исполнявший какие‐то технические или канцелярские обязанности в высоком, рангом значительно выше полкового, штабе. Я запомнил добрые, задумчивые и печальные глаза этого Человека. Я остановился напротив него, и он стал меня расспрашивать о том, о сем. Я охотно отвечал на вопросы и сам о чем‐то спрашивал. Словом, разговорились, да так разговорились, что я почувствовал в нем что‐то очень близкое мне, - что‐то от Вани Показеева, друга моего лучшего, почудилось мне в нем. А в конце разговора он так жалостливо посмотрел на меня, будто мой завтрашний день предвидя, и говорит:
Как же Вы будете - и без шинели, и даже плащпалатки нет у Вас?.. Вот, возьмите...
И с этими словами он протянул мне свою свернутую трубкой плащ-палатку. Я взял. Поблагодарил. А имени его спросить не догадался. И он тоже не спросил моего имени. И мы разошлись: он пошел к кому‐то из своих, а я откликнулся на зов Ивана, подыскавшего нам подходящее место в дальнем углу конюшни. Мы разошлись и больше не встретились. Жизнь мне спас Человек, а я даже имени Его не знаю. Но храню Его образ в душе своей всю жизнь и сохраню до последнего своего часа: если бы не Он, не прожить бы мне и двух месяцев в том аду, в каком пришлось оказаться.
4
В той конюшне продержали нас недолго, не более четырех часов, пока немцы не закончили прочесывать всю местность к юго-западу от Чернигова, где еще вчера шел жестокий бой. А перед вечером лающие крики немцев повыгоняли нас из конюшни и построили в колонну по пять человек.
Когда я выходил из‐за конюшенной ограды, колонна уже почти выстроилась, а на ее правом фланге я увидел несколько наших старших командиров - подполковников и майоров, - и среди них узнал чернявого с усиками подполковника, который был начальником корпусной артиллерии нашей, 5‐й армии [ 5‐я армия под командованием генерал-майора М. И. Потапова с начала войны была включена в Юго-Западный фронт и участвовала в приграничных сражениях и в Киевской оборонительной операции, в ходе которых понесла тяжелые потери. В сентябре 1941 г. армия была расформирована, а ее соединения и части переданы в другие армии фронта. Вновь 5‐я армия была создана в октябре 1941 г. на базе войск Можайского боевого участка. В составе Западного, затем 3‐го Белорусского фронта участвовала в Московской битве, Ржевско-Вяземской, Смоленской, Белорусской и Восточно-Прусской наступательных операциях. ] . Нет, на душе мне не стало легче оттого, что среди плененных немцами увидел я и своих высоких командиров, скорее наоборот: сердце сжалось от мысли о масштабах нанесенного нам поражения, оправиться от которого сумеет ли моя многострадальная Родина? Кто‐то из неподалеку стоявших, горько вздохнув, вымолвил: «Неужели погибла Россия?..» И никто ему не ответил, потому что этот же вопрос терзал душу каждому, а ответить на него - разве ж мы сумели бы тогда?..
Колонна получилась длиннющая, - чуть не полкилометра от правого до левого фланга, а конвоиров с автоматами не менее тридцати человек. Конвоиры долго и тщательно нас пересчитывали, прежде чем погнать в сторону Чернигова, а меня все не оставляла мысль о том, что выведут нас сейчас за околицу, где уж приготовлены пулеметы, и успокоят навсегда. Но вот подъехала легковая машина, из нее вышел немецкий генерал, и все немецкие охранники вытянулись в струнку, генералу доложили, по всей вероятности, о количестве взятых в плен русских, он подошел к голове колонны, задал несколько вопросов нашим старшим командирам (что это были за вопросы и что на них отвечали, я слышать не мог, потому как стоял метрах в ста от головы колонны), потом генерал прошел вдоль колонны, высокомерно и брезгливо оглядывая нас, махнул кому‐то рукой, после чего раздались лающие команды охранников и колонна медленно зашагала в сторону Чернигова.
Тот скорбный и позорный для нас марш продолжался, как мне показалось, чрезмерно долго: ведь до Чернигова было не более десяти километров, а мы преодолевали их никак не менее четырех часов, - может быть, потому, что слишком часты были остановки, во время которых нас обгоняли колонны немецких солдат, спешивших туда же, куда вели и нас, в сторону Чернигова.
Привели нас около полуночи на товарный двор железнодорожной станции, командиров тут же отделили и поместили в крытый склад, закрыв его двери на замок и поставив возле них часового с автоматом, а нас оставили во дворе, и мы разбрелись по разным навесам, где еще валялись остатки невывезенного сена, - оно‐то и послужило нам прекрасной постелью, подобной которой мы потом долго-долго не увидим. Да, одни долго-долго, а другие - никогда.
Вдыхая запах сена, скошенного, по всей вероятности, в июне и привезенного сюда скорей всего в августе, я вспоминал давным-давно минувшие дни своего щаповского [ Дмитрий Трофимович Чиров родился 1921 г. в деревне Щапово, которая находится в 30 км к югу от города Уральска. ] детства и мысленно прощался с ними навсегда: ощущение остановившегося времени продолжало держать мою душу в тисках беспросветной безнадежности. Это ощущение было настолько сильным, что подавило и вытеснило куда‐то все другие, даже самые естественные и жизненно необходимые, - голода и жажды: уже более суток во рту у меня и маковой росинки не побывало, а мне не хотелось ни есть, ни пить, будто потребность в пище и воде куда‐то улетучилась, но меня это нисколько не беспокоило.
Случилось что‐то, по‐видимому, и с моей памятью, точнее - с восприятием и запоминанием всего, что меня окружало: я не помню, с кем именно шел я рядом в той позорной колонне, не помню, когда покинул меня, примкнув к компании своих тамбовских земляков, Иван Завгородний, - случилось ли это уже в Чернигове или Гомеле; не помню, когда близко сошелся с Иваном Заверткиным и Петром Кильгановым, - в Чернигове, Гомеле или в Бобруйске; не помню точно, когда начало беспокоить меня ощущение голода, - еще в Гомеле или уже в Бобруйске; встречался ли я в Гомеле с Каримом Гариповым лично или же мне кто‐то рассказал, будто видел его в компании татар, сгуртовавшихся вокруг кухни для пленных, где они разделывали туши убитых лошадей, мясом которых немцы кормили нашего брата...
5
Но что‐то же я запомнил из первых дней плена? Да, конечно. Помню, как лежа на сене в одном из многочисленных навесов товарного двора станции Чернигов, прислушивался к поющим деревянными голосами немцам, повзводно и по ротам шагавшим куда‐то, и их деревянное пение вызывало у меня такой прилив тоски, справиться с которой не было никаких сил, и мне ни на что не хотелось смотреть, ни с кем и ни о чем не разговаривалось, ни о чем не думалось, лишь одно-единственное желание теплилось где‐то в глубине еще не до конца парализованной души - сжаться в комок, превратиться в крохотную точечку и - забыться, забыться, забыться.
А где‐то у самых ворот товарного двора, совсем неподалеку от меня, суетились немецкие конвоиры: кого‐то поднимали, сгоняя с нагретых мест, строили, считали, уводили куда‐то в город, потом через некоторое время - через час, два, пять часов? - приводили назад, и приведенные с кем‐то делились впечатлениями о своей удаче: что‐то там они то ли грузили, то ли выгружали, и удалось им при этом перекусить, а что‐то даже и с собой прихватить, и смысл их впечатлений был обнадеживающим, - мол, расстреливать нас немцы не думают, значит, пока живы останемся. Доходили отголоски этих впечатлений и до моих ушей, да только легче мне от них не становилось, - душа продолжала пребывать будто в замороженном состоянии.
Так продержали нас в этом товарном дворе часов до шести вечера 10 сентября, а потом подогнали несколько больших крытых грузовиков и загнали всех в кузова. На закате солнца привезли нас в Гомель, где расположили то же на каком‐то производственном дворе. Ни в Чернигове, ни в Гомеле нас ни разу не покормили: утром 11 сентября всем накануне вечером привезенным из Чернигова велели построиться, вывели со двора и вновь загнали в крытые машины.
А перед тем как отправить дальше, немцы продемонстрировали перед нами свое сытое благополучие: у самых ворот Гомельского лагеря для военнопленных стоял грузовик с открытым верхом, а в нем немцы-охранники с аппетитом жрали свои увесистые и калорийные завтраки - хлеб с салом и колбасой запивали чем‐то из фляг - и громко обменивались оскорбительными репликами в наш адрес. А мы, уже третьи сутки ни разу не евшие, проходили мимо них, невольно сглатывая голодную слюну.
К тому времени, кажется, ко мне вернулось ощущение голода, и я вспомнил нечто подобное из своей жизни в семье отца и мачехи: наказывая меня голоданием, они усаживались за стол, уписывали за обе щеки обед или ужин, а я сидел в стороне и глотал голодную слюну. И это воспоминание помогло мне тогда, никому не говоря ни слова, горько пошутить над самим собой: уж если я выдерживал голодные испытания в родной семье, то уж здесь‐то, в неволе немецкой, тем более выдержу. Так впервые за часы плена на мгновение вспыхнуло во мне залетной искоркой чувство юмора. Вспыхнуло и сразу же угасло. Надолго-надолго угасло.
До Бобруйска нас везли чуть ли не целый день. Провозили через полностью разрушенные города Жлобин и Рогачев, - одни прокопченные сажей печные трубы вздымались в пустынное небо, с немым укором взывая к нему о сострадании и милосердии, а обнаженные со всех сторон остовы печей всем своим видом укоряли людей за их бессилие и жестокость. И редко кто из нас, глядя на эти костьми полегшие под вражеским огнем города, не содрогнулся сердцем, приняв их бессловесный укор и в свой адрес. А уж какое чувство вызвали у нас сброшенные с постаментов бронзовые бюсты Ленина и Сталина, валявшиеся у самого въезда в Жлобин, сказать нетрудно: демонстрируя перед нами свое высокомерное презрение к нашим государственным святыням (из песни слова не выкинешь - бюсты Сталина, как и памятники Ленину, считались нами официальной святыней), немцы растаптывали и наше национальное, патриотическое и гражданское достоинство и тем самым преступали самые священные законы цивилизованной морали, даже за людей нас не считая. И в этом был главный просчет их государственной человеконенавистнической стратегии.
Да, Гитлеру удалось заморочить немцев расистским национал-социализмом, внушив им бредовую мысль о недосягаемом превосходстве расы чистопородных арийцев, каковыми он посчитал тех своих германских соотечественников, в ком вплоть до пятого колена нет ни капли неарийской крови. Сталин же возомнил себя единственным непогрешимым пророком пролетарского социализма и, подмяв под себя огромную страну, заморочил нас верой в свое величие и гениальность, в свое право распоряжаться нашими судьбами так, как в его понимании повелевают идеи социализма.
И Гитлер, и Сталин возглавили сильнейшие в Европе государства с почти одинаковыми тоталитарными режимами. Только тоталитаризм Гитлера был больше направлен вовне, а тоталитаризм Сталина - внутрь государства, что и привело в предвоенное десятилетие к истреблению миллионов советских граждан. Однако Сталин умело спекулировал ленинскими и, в основе своей гуманистическими, лозунгами, благодаря чему в наших людях и крепла вера в истинный социализм. И нельзя не сказать, что именно эта вера воспитывала в наших людях чувство гуманности к народам зарубежных стран, и потому мы, когда наступила пора возмездия гитлеровским захватчикам, унижать национальное достоинство немцев себе не позволяли. Немцы же в 41‐м и 42‐м годах унижали наше достоинство без всякой оглядки и тем самым добились эффекта прямо противоположного тому, на какой рассчитывали.
И первые месяцы моего плена явились тем временем, когда беспардонная самоуверенность гитлеровцев крушила не только наши вооруженные силы, но и растаптывала на оккупированных ими землях все, что было провозглашено и завоевано нашей революцией, освящено именем Ленина. Отделить Ленина от Сталина, чтобы понять нас и отнестись к нам с надлежащим уважением, гитлеровцы не хотели, да и не могли.
6
Нас привезли в Бобруйск на закате солнца 11 сентября, в конце третьего дня моего плена. В самом центре города, где не было никаких следов разрушений, словно война и не коснулась тех мест, колонна перевозивших нас машин остановилась, и мы получили возможность увидеть тихий и чистый уголок небольшого городка - вымощенная булыжником улица, деревянные, как в Пензе, тротуары, витрины магазинов, а совсем неподалеку от машины, где, словно звери в клетке, находились мы, - ресторан, к дверям которого подходили и тут же скрывались за ними молодые мужчины, одетые в хорошо отглаженные костюмы, а некоторые из них вели под руку тоже молодых и нарядно одетых, модно причесанных женщин...
Неужели все это не приснилось нам, вышибленным войной не только из ставших привычными окопов, но и из естественного ритма человеческой жизни, включающей в себя своевременное удовлетворение самых естественных потребностей - мытье рук и лица, прием пищи, утоление жажды, смену белья, чтение газет или книг, писание писем родным и близким, - неужели этих мужчин и женщин мы видели наяву? А если и наяву, то, может быть, это совсем не реальная, а всего лишь сказочная явь, - война кругом, а тут все выглядит так, будто никакой войны вовсе и нет. Да и кто они, эти модно одетые и чисто выбритые мужчины с нарядными дамами под ручку?
Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать: машины тронулись и вскоре въехали, миновав тот тихий и укромный переулок с рестораном и чисто вымытыми витринами магазинов, на торговую площадь с рыночными прилавками. Вдруг машины резко сбавили скорость, а мы сразу же поняли причину этого: слева по ходу стояла недавно сооруженная - ошкуренные столбы еще не успели потемнеть от желтизны - перекладина, а на ней - пять мужских трупов в крестьянской одежде и на груди у каждого деревянная табличка, на которой дегтем выведены слова: «Я был партизаном».
Вот так немцы в течение всего лишь одного дня устроили перед нами, поверженными пленниками, целых три демонстрации: первая из них была призвана пробудить в нас зависть, - как же сытно и вкусно питаются немецкие солдаты; вторая демонстрация, во время проезда через полностью разрушенные Жлобин и Рогачев, вероятнее всего, имела своей целью ошеломить нас мощью германского оружия, сопротивление которому, мол, учти
те: это бессмысленно; что же касается последней демонстрации, то она, как мне теперь представляется, призвана была завершить начатый утром процесс психологического устрашения и оболванивания: нарядно одетые мужчины, под ручку с красивыми женщинами идущие в конце рабочего дня в ресторан, должны были показать нам, как добры и великодушны оккупационные немецкие власти к тем советским гражданам, которые безо всякого сопротивления отреклись от себя вчерашних и покорно согласились служить новоявленным хозяевам; ну, а трупы повешенных говорили сами за себя, - вот, мол, что ожидает каждого, кто осмелится поднять на нас оружие.
Бобруйский лагерь для военнопленных [ В Бобруйске в это время имелось два транзитных лагеря для советских военнопленных: один - в бывшей крепости (дулаг No 131, вместимостью около 40 тыс. человек) и другой (дулаг No 314, вместимостью около 6 тыс. человек) - возле аэродрома. Судя по всему, Чиров попал во второй из них. В своем отчете об инспекции этого лагеря 29.9.1941 г. (спустя две недели после того, как через лагерь прошел Чиров!), полковник Маршал писал: «С момента прошлого посещения много работы выполнено по развертыванию лагеря. Ликвидировна грязь. 6 тыс. военнопленных размещены теперь удобнее под крышей. Охраны для имеющегося количества пленных достаточно». Комендант лагеря пожаловался на недостаточность персонала самого лагеря - всего 80 человек, а в ответ получил указание привлекать украинцев и обученную вспомогательную полицию (См. Государственный архив - Военный архив Германии, Фрайбург. RH 22. Nr. 251. Bl. 64–67). ] располагался у западной окраины города на невысоком холме вблизи железной дороги. Это был первый настоящий немецкий лагерь для военнопленных, - огороженный двойным рядом колючей проволоки, со сторожевыми башнями через каждые сто метров, с прожекторами на башнях и стоящими на них автоматчиками. У лагеря были двойные ворота, между которыми длинный, метров в сто, коридор из колючей проволоки. В этот коридор и завели нас сразу же после того, как приказали вылезти из машин. Построили в колонну по пять. Пересчитали. Открыли внутренние ворота и завели ввнутрь. Объявили, что питание выдается здесь раз в день, а чтобы получить его, надо, не позднее чем за полчаса до раздачи, построиться по сотням и после пересчета в составе сотни встать в очередь за получением пищи. «Всякий, кто попытается повторно получить паек, будет жестоко наказан», - это последние слова, что были сказаны нам перед тем, как была дана команда «разойдись».
Уже смеркалось, когда мы разбрелись по лагерю, выискивая в разбросанных по его территории сараях, бывших когда‐то складскими помещениями, место для ночлега. Именно в тот вечер я и примкнул к своим старым товарищам по полковой школе - Ивану Заверткину и Петру Кильганову. Оба они были из Мордовии, в полковой школе часто держались вместе, а после окончания школы Петра направили в стрелковый батальон, а мы с Иваном были оставлены - уже в качестве командиров минометных расчетов - в полковой школе, и когда началась война, опять оказались вместе, в полковой минбатарее. Куда исчез Иван Заверткин после того, как мы, вечером 8 сентября, свои минометы в Десне утопили, я не знал. Постигла же его, как и всех нас, кто остался в живых после боя под селом Гущино на правом берегу Десны, та же, что и меня, судьба. И только в Бобруйском лагере, - а может, и в Гомельском, точно не помню, - мы нашли друг друга и не расставались с тех пор, наверное, более полутора месяцев.
В одном из сараев мы разыскали место и сразу же расположились на ночлег. На троих у нас было две плащ-палатки: одна Ивáнова, а другая моя, та, что подарил мне Тот Человек, а у Петра Кильганова ни плащ-палатки, ни шинели не было, - и одну из них мы, сбившись в кучу, стелили, другой накрывались.
О том, что мы были голодны, говорить еще рано: всего каких‐то трое суток прошло с того момента, когда каждый из нас, в одночасье лишившись всего, с чем успел сжиться за месяцы службы и за недели войны, ступил за ту черту, где начиналась черная неизвестность безо всякой надежды на просветление. И только когда нас перевезли в Бобруйск, подвергнув жесточайшей психологической обработке, мы начали осознавать, что представляет эта черная неизвестность. Точнее сказать, покров с неизвестности немцы прямо перед нашими глазами сорвали, обнажив со всей беспощадностью ту черноту, что скрывалась за ним, - черноту неволи, черноту абсолютного бесправия и полнейшей беззащитности, черноту непробиваемой безнадежности. Подавляемые сознанием сковавшей наши души безнадежности, могли ли мы в тот вечер, располагаясь на бесприютный свой ночлег, думать еще и о голодных желудках?!
Ощущение голода начало нас тревожить лишь на следующий день, когда мы увидели, что люди, прожившие в том лагере уже не одну неделю, каким‐то образом приспособились к своему положению и смирились с ним. Отовсюду слышались разговоры о том, как кому удалось накануне попасть на удачную работу, и как на этой работе подфартило что‐то раздобыть, и как потом добытое обменяли на курево, а курево - на полпайки хлеба и тому подобное. Люди с самого утра собирались толпами, в гуще которых бойко шел торговый обмен. Тут никто никому не сочувствовал и никто никому не подарил бы ненужную ему вещь, как подарил мне плащ-палатку Тот Человек. Тут вступили в права совсем иные отношения: каждый за себя и никто за всех.
7
С чем можно сравнить отношение немцев к нам, их пленникам? Не тех немцев, что взяли нас в плен на поле боя, - об их беззлобно-равнодушном отношении я уже рассказал, - а тех, под чье начало мы поступили в Гомеле: немцы, принявшие нас под конвой в Гомельском лагере, были уже не фронтовыми, а тыловыми оккупантами, главной задачей которых было утверждение и всяческое укрепление власти «Третьего Рейха» на только что завоеванных землях. На нас же смотрели как на людское поголовье, которое надо строжайшим образом охранять и держать в повиновении. В предупреждение побегов из лагеря, они кормили нас так, чтобы в течение нескольких недель превратить в беспомощных дистрофиков. Это было отношение нерадивых пастухов к стаду, численность которого никого не интересовала: стадо, вроде бы, ничейное, так что, если оно и убудет, так пастухам от того не убыток, а прибыль, - корм и на павшее поголовье они продолжали получать.
Да, в течение первых двух месяцев плена каждый из нас и в самом деле чувствовал себя в положении некоей человеческой единицы в строго охраняемом людском стаде, обреченном на медленное умирание. Для немцев мы были именно стадом, и ни чем иным: нас, построив по сотням, прежде чем выдать суточный рацион питания, тщательно пересчитывали и итоги, скажем, сегодняшнего пересчета сверяли со вчерашними, но ни один из нас для немецких охранников не существовал как человек: наши фамилии, имена и прочее, что отличает одного человека от другого, немцев не интересовали, и если кто из нас умирал, то хоронили его в общем рву как безымянного.
А кто был больше виноват в таком к нам отношении: немцы, бравшие пленных летом и осенью 41‐го года миллионами, опьяненные своими успехами, походя растаптывавшие в нас все человеческое, или же наше родное правительство, не просто отказавшееся от элементарной заботы о нас, которую наши западные союзники, памятуя о своих солдатах и офицерах, попавших в плен, осуществляли через международный Красный Крест, но и пославшее нам вослед чудовищное проклятие, объявив дезертирами и изменниками? Виноваты, разумеется, обе стороны, но я глубоко убежден еще и в том, что на нашем тогдашнем правительстве лежит несмываемый грех за гибель многих и многих сотен тысяч советских военнопленных, нашедших свой конец за колючей проволокой гитлеровских лагерей.
И что самое жестокое и бесчеловечное в отношении советских властей к нашим плененным врагом воинам: умирали они с мыслью о не снятом с них проклятье, которого, право же, не заслужили. А не оно ли, сатанинское проклятье, прозвучавшее со страниц сталинского приказа 270, вызвало к жизни такое исчадие, как генерал Власов с кликой предателей Родины? Но об этом - речь впереди. Сейчас же могу сказать лишь одно: не будь приказа 270 и не откажись наше государство от услуг международного Красного Креста, не было бы и предателя Власова.
А как легко было немцам выискивать и находить в нашей среде разных прихлебателей и превращать их в своих верных псов! Я не берусь судить, в каких социальных слоях нашего общества обретались до плена те, из кого немцы формировали надсмотрщиков-полицаев и разного рода доносчиков и стукачей, но те, кого мне пришлось наблюдать (в близких отношениях ни с кем из них я не был, потому что иного чувства, кроме отвращения, они не вызывали), больше всего походили на оскотинившихся подонков-уголовников, готовых за кусок хлеба и за несколько окурков продать не только своего соотечественника, но и мать родную. Что немцы для ужесточения лагерного режима опирались - особенно в 41‐м и 42‐м годах - именно на наших подонков, это не делало им чести (впрочем, о чести своей перед нами они нисколько не заботились: нас они за людей не считали), но цели своей добивались: губили нас нашими же руками. Нас, плененных утром 9 сентября под Черниговым, впервые покормили, выдав по двести грамм хлеба и по черпаку картофельной похлебки в полдень 12 сентября в Бобруйском лагере, то есть более трех суток спустя после пленения. Но мучений от голода в те трое суток я не помню, так как не эти мучения определяли мое настроение, а муки душевные, о которых я уже рассказал. И хоть теперь, полвека спустя, не очень приятно в этом признаваться, но ощущение голода лишь на четвертый день плена явилось началом какого‐то поворота и в моем внутреннем мироощущении. Нет, это был вовсе не поворот к надежде, а что‐то совсем иное, а вот что именно? Может быть, очнулся и вступил в свои права парализованный потрясениями последних дней инстинкт самосохранения?
В тот день я впервые почти в упор разглядывал немецких прихлебателей: это были повара-раздатчики, с распухшими от обильной жратвы и лоснящимися от жира, проступавшего сквозь загорелую смуглую кожу, мордами и выпяченными, как у бульдогов, тяжелыми челюстями, - нарочно что ли немцы выбрали типов с бульдожьими физиономиями, чтобы потешиться, наблюдая, как они усердно облаивают своих соотечественников. А уж как они старались перед своими хозяевами, хотя хозяев‐то тех стояло возле раздаточной всего двое: один ефрейтор с висящим на ремне плоским штыком в кожаном футляре да унтер-офицер с парабеллумом, пристегнутым к ремню с левого бока.
Ефрейтор был уже в возрасте, наверное, из недавно мобилизованных, он стоял молча, угрюмо наблюдая за порядком в нашей очереди, а унтер-офицер был совсем молодой, ему усердие наших человекоподобных бульдогов очень нравилось, и он то и дело поощрял их лай одобрительными репликами, смысл которых был примерно таким: мол, хорошо стараетесь, продолжайте и дальше в том же духе. Услышав одобрение господина, бульдоги расцветали мордами от распиравшей их радости и принимались с еще большим усердием облаивать своих голодных, грязных и полуоборванных соотечественников.
Аб! Аб!! Аб! - надтреснутым фальцетом надрывался один мордастый.
Форбай! Форбай! Форбай! [ От нем. «vorbei» - буквально: «мимо». Здесь - в смысле «проходи!». ] - нутряным басом вторил ему другой.
И как эти подлюги свой оскал бульдожий маскировали, когда среди нас находились?! - зло проговорил Петр Кильганов, когда мы вернулись, получив свои порции, в сарай.
Как-как?.. - проворчал в ответ Иван Заверткин. - Сам, что ли, не знаешь, как?! Лебезили перед каждым командиром, да, скаля зубы, улыбались. А теперь, почти по‐прежнему скаля зубы, рычать по‐собачьи и лаять научились - новым хозяевам в угоду.
8
Примерно через неделю всех обитателей Бобруйского лагеря построили по сотням, повели к железной дороге и погрузили в открытые вагоны с высокими бортами, - в них обычно уголь и лес перевозят. Вагоны набили нашим братом битком, так, что никому из нас даже на корточки присесть было невозможно. В голове и хвосте эшелона - крытые вагоны для охранников со специально оборудованными на крышах площадками для часовых. Куда нас повезут, не объявили, в день отправки не покормили и в дорогу ни кусочка не дали.
Перед закатом солнца наш эшелон остановился на станции Слуцк. На первом пути остановился, у самой платформы для пассажиров, которую иногда перроном называют. А вокруг все тихо, из людей никого не видно, лишь охранники немецкие с винтовками наперевес вдоль эшелона расхаживают, а мы на них из‐за высоких вагонных бортов сверху поглядываем да прислушиваемся, что они между собой говорят, - может, хоть назовут конечный пункт нашего следования и удастся узнать, долго ли еще нам вот так‐то: без еды и питья, без возможности справить нужду.
А вечер такой тихий, что только любоваться бы и любоваться им бесконечно, если бы на воле находились, и тепло так, как бывает в дни бабьего лета. Но тут случилось такое, что мигом заставило нас забыть о том, какая благодать царит за пределами нашей неволи, и вспомнить, кто мы есть для любого поставленного нас охранять. Одному парню из нашего вагона приспичило справить «большую нужду», и он принялся упрашивать проходившего мимо охранника, чтобы тот разрешил ему выйти, объясняя и словами и знаками, что выйти крайне необходимо. Но охранник в ответ прицелился в него из винтовки и, пролаяв какую‐то угрозу, пошел дальше вдоль эшелона. А несчастный, которому «приспичило», посмотрел ему вслед и, по всей вероятности, подумал: пока этот тип с винтовкой сойдется с шагающим ему навстречу от головы эшелона напарником да поговорит с ним, он свою нужду справить успеет. И незамедлительно перелез через поперечный борт вагона и, на чем‐то там расположившись между вагонами, совершил то, ради чего и очутился в запретном пространстве. И если бы немец, только что целившийся в несчастного из винтовки, прошагал именно то расстояние, на какое рассчитывал наш бедолага, его вынужденный проступок мог бы остаться незамеченным, и бессмысленного смертоубийства не произошло.
Но немецкий охранник был молод и жаждал подвига. Он, по внешности чистейший ариец, - белолиц, прямонос, со светло-русыми волосами и водянистыми светло-голубыми, цвета зимнего неба, глазами, - пылал ненавистью и презрением к этим вот русским большевикам, которых почему‐то везут в сторону его великого и любимого фатерланда, а будь его воля, он бы их, дай только ему автомат или пулемет, всех до единого уложил, чтобы в родном фатерланде ими не воняло. И что‐то учуял этот юный ариец и потому, прошагав всего каких‐нибудь метров пятьдесят, круто повернул назад и поспешил к нашему вагону.
Что умолявший выпустить его на минуту русский что‐то затеял, бдительный ариец догадался по беспокойному гомону и пугливым оглядкам в его сторону оттуда, где он только что пригрозил пустить в ход оружие, если русский пленный все‐таки осмелится высунуть свой нос за пределы вагона. И когда охранник вернулся, он увидел такое, что заставило его сперва брезгливую гримасу скорчить, и он тут же с отвращением и злобой сорвал с плеча винтовку, снял предохранитель с затвора и, прицелившись в голову несчастного, выстрелил в него чуть ли не в упор. Да не один раз, сволочь этакая, выстрелил, а трижды. И после выстрелов еще какое‐то время постоял возле своей кровавой жертвы, будто любуясь делом рук своих.
На выстрелы сбежались другие охранники, а потом и офицер, начальник охраны, вразвалочку пришагал. Порыготали да погоготали господа немцы между собой, издеваясь над памятью только что убитого, - вот, мол, справил «большую нужду». И в нашу сторону пальцами запоказывали, - вам‐де, свиньи русские, урок, будете знать, как соблюдать предписанный порядок. Один из охранников удивление даже высказал - как это, мол, могла у этого русского «большая нужда» возникнуть: жрать‐то им дают чуть‐чуть, да и то раз в сутки, а сегодня их и вообще не кормили.
О чем думал я, о чем думал каждый из нас, невольно наблюдая за тем, как ведут себя господа немцы, сбежавшиеся поглазеть на совершенно бессмысленное убийство? А о чем можно было думать нам в таких обстоятельствах? Да и что толку было думать - разве думы могли подсказать выход из нашего безвыходного и безысходного положения? В том положении могло быть легче, чем другим, наверное, людям верующим, но среди нас я таких что‐то не встречал: вера в Бога была из нас не просто вытравлена нашей официальной пропагандой, но и беспощадно высмеяна. И о чем же нам, неверующим, было думать, видя, как на наших глазах так нелепо оборвалась жизнь нашего товарища? Да ни о чем другом, кроме как об абсолютной безнадежности своего существования. А еще о том, что мы бессильны и бесправны перед слепой и безжалостно жестокой силой обстоятельств, потому что уже не люди, а именно обстоятельства всевластны над нами, а жизнью любого из нас распоряжается один только господин случай.
В самом деле, разве то, что произошло на наших глазах, это бессмысленное убийство ни в чем не провинившегося перед немецкими охранниками парня, можно объяснить чем‐то другим, а не прихотью слепого случая? Ведь у него же не было иного выхода. Представим себе, что он не осмелился бы на поступок, платой за который стала его жизнь, и наложил бы в штаны, - как отреагировали бы на это не просто рядом с ним стоящие, но притертые к нему вплотную, ведь нас набили в вагон, как сельдью набивают бочки? Надо полагать, он живо представил, что бы началось вокруг него, позволь он себе не удержать в кишечнике того, что удержать никак невозможно, и выбрал из двух возможных хоть и наиболее опасный для себя, но все‐таки куда более приемлемый вариант: погиб, но перед товарищами своими не опозорился.
Думал я и о матери того парня, чья участь куда мучительнее той, о которой пелось в популярной тогда песне «Раскинулось море широко...»:
Напрасно старушка ждет сына домой,
Ей скажут, - она зарыдает...
А ведь его несчастной матери никто и никогда ничего не расскажет о судьбе сына, и она до конца дней своих будет обречена на безнадежное ожидание. А сколько таких матерей война лишила самого, казалось бы, неотъемлемого права, - знать, где и как погиб ее сын и в какой земле погребен его прах. Да еще и изуверские вести иным матерям и женам вручали: мол, пропал ваш сын или муж без вести, а это, между прочим, означало и то, что он в плен к врагам попал, то есть, сдался на их милость, Родине изменил. А раз так, то и отношение к семьям без вести пропавших было соответствующее, - в духе сталинского приказа 270.
9
Ранним ветреным и холодным сентябрьским утром (было это числа 20‐го) привезли нас на станцию Барановичи и сразу же после выгрузки из вагонов повели к местной тюрьме. Расположили, однако, сперва даже не в тюремном дворе, а возле тюрьмы, под ее западной стеной. При этом велели всем сесть на землю и ни в коем случае не вставать на ноги. Кто‐то, забыв о приказе, встал, чтобы «малую нужду» справить, и получил пулю в левую руку. Вот так немцы в течение всего одних суток, чтобы устрашить нас, устроили два бессмысленных и жестоких кровопролития...
Пребывание в Барановичах, длившееся около трех недель, запомнилось мне тем, что я, совсем до того не знавший, что такое тюрьма, завидовал товарищам по несчастью, кому подфартило в холодные осенние ночи «блаженствовать» под тюремной крышей за толстыми стенами тюремного здания: бóльшая часть военнопленных и дни и ночи прозябала на тюремном дворе под открытым небом. Вот когда я еще и еще раз мысленно возблагодарил Того Человека, что подарил мне в полдень 8 сентября свою плащ-палатку.
Мы по‐прежнему продолжали держаться втроем - Иван Заверткин, Петр Кильганов и я, - вместе спали, подстелив под себя одну из плащ-палаток и укрывшись другой, вместе становились в одну «сотню» при построении перед раздачей пищи, вместе грелись на скупом осеннем солнышке под тюремной стеной.
Здесь же, в Барановичах, начала гноиться моя не затянувшаяся до конца рана-царапина на правой голени: ни свежих бинтов, ни марганцовки, ни йода, ни мази какой-никакой, - ни малейшего намека на возможность получить медицинскую помощь не было. И приходилось стирать без мыла старый бинт в стоячей луже, образовавшейся у тюремного колодца, промывать рану холодной колодезной водой, благо, что набрать воды было во что, выручала каска, долгое время служившая мне и кастрюлей, и тарелкой, и кружкой, - а потом, просушив бинт, снова наматывать его на рану. И Судьба моя была настолько милостивой ко мне, что хранила от гангрены: рана сочилась и гноилась, но почти не кровянила.
Улыбнулась мне в Барановичах и удача, благодаря которой я без каких‐либо для себя последствий перенес жесточайшие испытания, каким подвергли нас фашисты во второй половине октября 41‐го года, когда почти все, у кого не было шинелей, погибли: кто‐то, имевший две шинели, предложил мне одну в обмен на плащ-палатку, и эта шинель спасла мне жизнь.
Из Барановичей нас вывезли где‐то 11 октября, затолкав в «телячьи» вагоны по сто человек, - сесть было невозможно, и трое суток мы в них простояли. На дорогу ни крошки хлеба нам не выдали. Почти двое суток везли, не открывая вагоны во время остановок поезда и не выпуская никого даже «по нужде», а «параш» в вагонах не было, да их и поставить, если бы они и были, было некуда. И хорошо, что наши кишечники успели как‐то приспособиться к голодному режиму: потребность в «большой нужде» возникала не чаще одного раза в пять дней, почти то же самое было и с малой нуждой, потому как воду мы почти не пили, хватало той жидкости, что доставалась нам в виде картофельной или крупяной похлебки.
Но на польской станции Катовице Судьба смилостивилась над нами: немцы открыли вагоны, вывели на платформу и выдали по ломтю белого хлеба и черпаку какой‐то теплой жидкости - чего‐то среднего между чаем и кофе. А потом повезли дальше, на запад, и утром 14 октября выгрузили в Германии, на станции Ламсдорф. В какой именно части Германии располагается этот самый Ламсдорф, не знаю, но думаю, что где-то внутри треугольника между городами Дрезден - Берлин–Лейпциг [ Чиров ошибается. Шталаг Ламсдорф находился значительно восточнее, в Верхней Силезии. Ныне - на территории Польши, современное название: Ламбиновице, в бывшем шталаге размещается единственный в мире Музей военного плена. ] .
10
Стояло пасмурное, серое осеннее утро, - Покров день. С неба сыпалась мелкая холодная морось. Выгнав нас из вагонов и приказав построиться в общую колонну по пять, солдаты, охранявшие в дороге эшелон, сдали нас охранникам, прибывшим из шталага 318 (шталаг, или штаммлагерь, - основной, коренной или центральный лагерь [ Имеется в виду лагерь Ламсдорф. ] ), расположенного километрах в пяти от станции. А наши новые охранники пожаловали с овчарками, - таких «почестей» нам до этого дня еще не оказывалось. Понадобились немцам овчарки вовсе не потому, что они нашего побега опасались, а потому, что знали: из России привозят людей, крайне изможденных от голода, а на полях, примыкающих к дороге, которая ведет в лагерь, еще брюква не убрана, - так вот, чтобы никто из голодных русских, упаси Бог, не осмелился безнаказанно посягнуть на немецкое добро в виде вполне съедобной для изголодавшихся людей брюквы, охранники и привели овчарок.
Но меня в смущение привели не овчарки, а немецкие старухи. Мы ведь как были информированы? - Власть Гитлера является антинародной, и немецкий народ чуть ли не стонет под железной пятой фашистского режима. А тут появляются прилично одетые немецкие старушки, но, как оказалось, вовсе не для того, чтобы выразить хотя бы тайное сочувствие нам, попавшим в плен к фашистам, а для того, чтобы собственными глазами увидеть вполне зримые результаты побед германского вермахта на Восточном фронте. Старушки приветствуют друг друга не традиционным немецким «Гутэн морген», а бодрыми возгласами «Хайль Гитлер!». А в нашу сторону смотрят с нескрываемым презрением, - вот, мол, они какие, хваленые большевистские вояки, - и даже позволяют себе в наш адрес выкрики, смысл которых, если их перевести, примерно такой: погодите, то ли еще будет, ужо мы и до Сталина вашего доберемся...
Сострадания или соболезнования нашему положению, - а выглядели мы и в самом деле так, что человек с душою не мог нам не сострадать, - ни в словах их я не расслышал, ни в глазах не заметил. Кстати, об их глазах: в них не было ни бешеной злобы, ни возмущения, но светились они холодным, высокомерным презрением к нам. Нет, они не стали бы терзать нас своими руками, не бросились бы выцарапывать глаза, а, вот, если бы у них на глазах на нас спустили всех овчарок, ни одна из них, наверное, не отвернулась, а наслаждалась бы с холодным злорадством зрелищем возмездия, которого только и достойны «эти русские свиньи».
Такое впечатление осталось у меня от кратковременного созерцания благообразных немецких старушек, явившихся 14 октября 1941 года на станцию Ламсдорф взглянуть на очередную партию советских военнопленных, чтобы убедиться, сколь велики успехи солдат фюрера на Восточном фронте, - немцы‐то в те дни уже вовсю рвались к Москве и были уверены, что с большевиками вот-вот будет покончено.
И очень жаль, что не удалось мне увидеть тех же самых старушек в мае 45‐го. Интересно, - помнили ли они свое поведение на станции Ламсдорф в октябре 41‐го? А если помнили, то раскаялись ли? А если раскаялись, то насколько искренне?
Но, вспоминая тех старушек сегодня, я вот что думаю: а не были ли они всего лишь исполнительницами заранее расписанной для них роли в том пропагандистском действе, которое фашистские идеологи и политики начали разворачивать перед нами еще по дороге от Гомеля до Бобруйска, а теперь решили, так сказать, окончательно ошеломить, продемонстрировав до мозга костей преданных фюреру и чуть ли не боготворящих его арийских старушек? И надо отдать должное немецким пропагандистам: лично меня эти старушки надолго повергли в состояние психологического шока. И разбираться мне в моем тогдашнем состоянии придется очень долго...
Нас, привезенных из Барановичей в Ламсдорф, было, наверное, тысячи три, так что колонна военнопленных растянулась чуть ли не на километр. И повели нас, грязных, измятых, по месяцу и больше не бритых, полуоборванных, добрая половина без шинелей и плащпалаток, всех почерневших от пота и пыли, а уж о том, что не просто голодных, но изголодавшихся, и говорить нечего, - повели нас по асфальтированной дороге, вплотную к которой, как я уже упомянул, с обеих сторон примыкало поле с брюквой, - таким аппетитным для нас, истощенных от голода, овощем. А с обеих сторон нашей колонны через каждые двадцать метров шли охранники с овчарками. Но находились на все готовые смельчаки, - они выбегали из строя и выхватывали из борозды первую попавшуюся брюквину, а вот укрыться от расправы удавалось далеко не каждому, и расплачивались ребята располосованными зубами овчарок гимнастерками, шинелями или брюками. Хорошо еще, что овчарки эти не были научены впиваться людям в загривок или в горло...
Более часа продолжалось скорбное шествие голодных и изможденных людей от станции Ламсдорф до шталага 318. Когда мы миновали брюквенное поле, конвоиры с овчарками ушли в хвост нашей колонны, а потом и совсем куда‐то исчезли, свернув в лесок, где, по всей вероятности, располагалась псарня. А конвоиры без собак, видя нашу изможденность и понимая, что подгонять нас бесполезно, дали нам возможность расслабиться, и колонна растянулась еще больше и даже распалась на отдельные группы. Но возле каждой группы шел конвоир, с которым кто‐нибудь из нас, с трудом подбирая слова, пытался завести разговор о том, что с нами будет дальше. Давая самые общие ответы, - мол, на работу, на работу будут вас отправлять, - немец тут же переводил разговор на события последних дней, хвастая успехами германских войск в России и уверяя нас, что, мол, вот-вот и Москве настанет капут. В спор с конвоиром никто не вступал, потому что нам было не до споров.
11
И вот ввели нас на территорию шталага 318, общая площадь которого была не менее четырех квадратных километров. Со всех сторон - двойное проволочное заграждение, а внутри еще и так называемая запретная зона, - тоненькая линия колючки, за пределы которой никто не смел ступить без риска получить без предупреждения автоматную очередь в грудь или в живот. Лагерь был разгорожен на зоны, или блоки, каждый из которых занимал площадь примерно в четыре гектара. В каждом блоке - стандартные деревянные бараки, площадка для всевозможных построений, а у самого края, перед внеш ним ограждением, находился капитально сооруженный из кирпича и бетона сортир.
Однако нас завели в блок, что располагался в противоположном от центрального въезда в лагерь конце, и здесь была только голая земля, покрытая увядшей осенней травой. Один лишь сортир, стоявший на одной линии с подобными ему сооружениями в соседних блоках, свидетельствовал о намерении лагерного начальства оборудовать и это пустующее пространство должным образом. И вот загнали нас в тот блок и тут же закрыли опутанные колючей проволокой ворота, - располагайтесь, мол, и живите, пока живы...
И начали мы располагаться. Те из нас, кто сумел за недели плена сбиться в дружеские компании человек по пять, сразу же принялись ямы копать, надеясь, что в них потеплее будет, - хоть от ветра можно укрыться. Чем копали? Да чем попало: у кого была каска - каской, у кого нож - ножом, у кого ложка - ложкой. Так что первые самодельные убежища под землей появились уже к вечеру 14 октября, - к тому времени немцы с помощью полицаев (а полицаями были наши же, русские, но обитали они в барачных блоках) успели дважды построить нас по сотням, дважды пересчитать и дважды покормить: в обед по черпаку брюквенной баланды выдали, а в ужин - по кусочку хлеба и по кружке теплого пойла, подслащенного сахарином. Впрочем, именовалось оно довольно‐таки высокопарно - кофе.
Иван Заверткин в тот же день откололся от нас и примкнул к компании, решившей соорудить для себя, по примеру многих, подземное логово, а мы с Петром Кильгановым пока предпочли не копать для себя яму: то ли на что‐то надеялись, - вдруг немцы решат перевести нас в бараки, ведь осень на дворе, - то ли вообще ни о чем не думали, положившись на волю случая, будь, мол, что будет. И первые четыре дня раскаиваться нам с Петром не пришлось: погода стояла хоть и по‐осеннему ветреная, но сухая, а к ночи обычно и ветер утихал, так что, плотно прижавшись друг к другу и укрывшись моей шинелью, от холода мы не страдали, - наверное, привыкли уже спать на голой земле.
Но 17 октября вечером сперва забрызгал мелкий дождик, а потом он стал усиливаться, да так, что вынудил нас с Петром искать спасение в земле. И принялись мы копать яму. А инструмент‐то у нас - моя каска, а у Петра - ложка. Стараемся изо всех сил, углубляя свою ямину, а дождь нас не просто поторапливает, но и подгоняет, - все гуще и гуще поливая. И, вот, когда, уже в полной темноте, мы свою яму вырыли, - точнее сказать, и не яму вовсе, а всего лишь ямку, - настолько, что могли в ней усесться вдвоем, плотно прижав колени к самым подбородкам, дождь перешел в ливень, и хлестал он почти до самого утра. Раскапывать нашу яму дальше стало невозможно, и мы, прекратив свою работу, уселись в уже описанной позе и укрылись сверху моей шинелью, а я еще и каску свою на голову надел.
И, вот, сидим мы, прижавшись к краям своего наскоро и кое‐как, второпях сооруженного окопчика, сидим, укрытые сверху шинелькой, а дождь хлещет так, будто небо все насквозь прохудилось и вся вода, что была там, где‐то в чужой нам вышине, на нас проливалась. Сидим, а шинелька‐то над нами, пропитываясь дождевой водой, все тяжелеет да тяжелеет и с каждой минутой все плотней и плотней к нашим плечам прилипает. Какое‐то время нам
удавалось воду с шинельки стряхивать, слегка подбрасывая ее вверх, а перед тем, как опустить движением руки к верхнему краю ямины сталкивая с шинельки воду на поверхность земли.
Но вскоре шинелька настолько пропиталась дождевой влагой, что всякая попытка прекратить ей доступ в наш окопчик оказывалась бесполезной. И потекла вода ледяными струями с плеч по спине и по груди вниз и вниз, и ее скользкое прикосновение вызывало судорожную дрожь во всем теле. А дождь все свирепел и свирепел, а мы, почувствовав, что под нами уже не сухо, - струи, стекавшие по нашему телу, становились все толще, а дрожь в теле все учащалась и учащалась, - продолжали сидеть в своей злополучной ямине, надеясь на то, что вода, пропитавшая наши гимнастерки и проникшая к самым ягодицам, не превратится все‐таки в лужу, а будет уходить в песчаный слой, до которого мы успели‐таки докопаться. И надежда эта, как ни странно, сбылась: песок под нами хоть и повлажнел, но не настолько, чтобы больше не впитывать в себя все стекавшую и стекавшую по нашим спинам и животам воду, - противная вода все же куда‐то исчезала, и мы это чувствовали, потому и продолжали сидеть в нашей ямине, чувствовали своими ягодицами, песок под которыми хоть и повлажнел, но продолжал каким‐то чудом сохранять чуть заметное тепло от наших тел. И, наверное, ощущение этого не столько реального, сколько воображаемого тепла и помогло нам выдержать, не впасть в состояние полнейшей безнадежности, во власти которой в ту кошмарную ночь оказались многие сотни несчастных, - тех, кому совсем нечем было укрыться: ни плащ-палаток у них, ни шинелей...
А нам с Петром удалось даже задремать, но и сквозь дрему я слышал слезные мольбы тех несчастных, обращенные, однако, не к небу, а к земле. «Дя-а-дя, - умолял то один, то другой из них, остановившись возле ямы, в которой располагалось трое или четверо, - пу-у-сти по‐грее-еться...» Каков бывал ответ на мольбу, расслышать мне не удавалось, но и без того было ясно, что «дядя», при всем желании, ничем помочь не мог: места в яме не то, что для человека, для кошки не хватило бы, - так плотно прижимались друг к другу расположившиеся в ней обитатели.
Слышал я сквозь дрему и иное, куда более страшное, - короткие очереди из автоматов и глухие шлепки пуль у запретной зоны: это до крайней степени отчаяния доведенные безжалостной стихией и потерявшие всякую надежду выжить решались разом избавиться от адских мук и, перешагнув низкое ограждение, выходили на роковую полосу.
А утром 18 октября подморозило... И когда немцы и полицаи построили и пересчитали нас, выяснилось, что свыше тысячи человек погибло той ночью: одни окоченели на земле, других завалило в их нороподобных ямах, третьи нашли свой конец на запретной полосе. Пригнали откуда‐то с десяток вместительных фургонов, запряженных крупными конями-тяжеловозами, и побросали в них, как дрова, умерших в течение всего одной ночи наших товарищей по несчастью и увезли на лагерное кладбище. Закопали их в заранее отрытом пленными рву, и сгинули те люди без следа, - ни имена их, ни возраст, ни воинские звания никого не интересовали ни в Германии, ни у нас в Советском Союзе.
12
Продержали нас в этой голой зоне после описанной кошмарной ночи еще с неделю, и каждое утро вывозили из нее по два-три фургона трупов, так что за первые десять дней пребывания в шталаге 318 от нас, привезенных из Барановичей трех тысяч, осталось около половины.
Как мы себя чувствовали, видя и понимая, что немцы сознательно обрекли нас на медленную и мучительную смерть? Ответить на этот вопрос можно, наверное, только вопросом: а как может чувствовать себя человек, не питающий никакой надежды на то, что будет жив завтра утром? Размышляя над этим вопросом полвека спустя, можно назвать и чувство обреченности, во власти которого каждый из нас находился. Но это была, наверное, все‐таки совсем не та обреченность, какую переживает приговоренный к смертной казни, которому уже объявили день и час исполнения приговора. Чувство обреченности, что переживали мы, особенно после роковой ночи с 17‐го на 18‐е октября, размывалось в нас ни с чем не сравнимыми муками голода.
Думаю, я не ошибся, сказав, что муки голода размывали в нас чувство обреченности: ведь, что греха таить, почти каждый из нас был готов принять смерть, если бы его перед смертью досыта накормили. Эту мысль, не стесняясь, высказывали вслух многие, в том числе и я. Нет положения более тяжкого и унизительного, чем то, в каком оказывается человек, когда он чувствует, как невидимая петля голода с каждым днем все туже и туже сдавливает его горло. Человек знает, что спасение от этой петли только одно, - раздобыть пищу и насытиться ею, только так можно ослабить эту проклятую петлю. А где ее добудешь, спасительную пищу, если под ногами у тебя лишь голая земля, а вокруг - колючая проволока, за пределы которой сам ты не выйдешь, так как нет у тебя воли, да такие же, как ты, голодные и изможденные невольники.
Но даже и в этих условиях мы не утратили способности наблюдать жизнь и размышлять над нею, хотя круг наших наблюдений был сужен до размеров отгороженного от всего мира лагерного блока с его капитально сработанным ватерклозетом. Но даже в лагерном блоке, вопреки каждодневному разгулу смерти, продолжала теплиться жизнь: утром вламывалась в него орава немецких охранников и полицаев, которые были такими же военнопленными, как и мы, но при первой же возможности продемонстрировали перед немцами свою готовность служить им верою и правдой, быть их двуногими псами, - по приказу хозяев лаять и кидаться на своих, не щадя ни их изможденных тел, ни человеческого достоинства. И немцы не только подкармливали своих двуногих псов, но и обмундировали их по‐особому, чтобы легче отличать среди огромной массы русских пленников, одетых в крайне обветшавшие и давно потерявшие свой первоначальный вид красноармейские шинели, плащ-палатки, гимнастерки и брюки и обутых в ботинки с обмотками да кирзовые сапоги.
Полицаев одели во французские шинели и мундиры да еще в высокие цилиндрообразные французские же фуражки с узенькими козырьками. С правой стороны мундира или шинели у каждого полицая висела наша, советская сумка из‐под противогаза, а в сумке - жратва: по вечерам немцы распределяли между ними хлебные пайки, предназначавшиеся тем, кто утром или днем навсегда перестал нуждаться в хлебе насущном...
Так вот, вломившись утром в наш блок, немцы сразу же натравливали на нас полицаев с плетками в руках, а сами, став в полукруг, наблюдали, с каким усердием русские псы-полицаи исполняют хозяйскую волю, как рьяно сбивают в строй изможденных своих соотечественников, как безжалостно лиходействуют при этом плетками и даже гавкают на немецкий манер. Наблюдали все это господа немцы с превеликим удовольствием и охотно поощряли зверства полицаев науськивающим их гоготом и улюлюканьем.
Процедура выстраивания и пересчета пленных по сотням продолжалась по часу и более: торопиться господам немцам было некуда, ибо часы показывали время их караульной и надзирательской службы, а оно ускоряло для них свой ход, когда они находили для себя хоть какое‐нибудь, да развлечение. А развлекались они и ленивым пересчитыванием нас по пятеркам и сотням, требуя, чтобы стояли мы во время пересчет по стойке «смирно», и придирками к кому‐то из тех, кто имел несчастье чем‐то не понравиться одному из великих господ, - тут уж не только отборная немецко-русская брань заполняла все вокруг, но и оплеухи с зуботычинами раздавались и налево, и направо.
А потом в ворота блока входила процессия кухонных рабочих с деревянными двухведерными ушатами, заполненными чуть тепленьким пойлом с высокопарным названием «кофе», и с мешками эрзацхлеба, испеченного из муки с примесью мелко перемолотых опилок. Ушаты ставились на землю перед выстроенными сотнями, а рядом с каждым ушатом выкладывалось из мешка десять килограммовых кирпичиков хлеба: по кирпичику на десять человек. После раздачи хлеба «пятерки» поворачивались лицом друг к другу и тому, у кого был нож, поручалось разрезать кирпичик на десять одинаковых кусочков, а затем кому‐то предлагалось отвернуться, а кто‐то, указывая на кусочек, спрашивал: «Кому?» Отвернувшийся называл фамилию или номер, - по номерам, с первого по десятый, рассчитывались сами, - и названному тут же вручалась его пайка. Получившие свой кусочек подходили к ушату с «кофе», и раздатчик наливал каждому в подставленную посудину - кому в котелок, кому в каску, кому в кружку, - полагающуюся порцию пойла.
Моментально проглотив хлеб и пойло и, не только при этом не насытившись, а лишь еще больше раздразнив мучительное чувство голода, мы тихо разбредались по своим ямам и яминам в ожидании обеда. А с наступлением обеденного времени все повторялось сызнова: гавканье и матюги полицаев, гогот и гвалт немецких надзирателей, несколько очередных жертв для надругательств и избиений, а в итоге - черпак чуть тепленькой брюквенной баланды. Без хлеба: есть хлеб во время обеда у немцев не принято. А после той баланды еще более мучительное ощущение голода: ведь муки голода, насколько я познал их на своем опыте еще в тридцать третьем году, пределов не имеют, а избавляет от тех мук или обильная пища, или же смерть.
Перед закатом солнца - третье по счету построение, третья за день физическая и духовная экзекуция, в итоге которой - повторная выдача по стограммовому кусочку эрзацхлеба и по кружке остывшего и чуть подслащенного пойла. На этом день заканчивался, а ночь предвещала новые муки: надвигалась безотрадная и ничего хорошего нам не сулившая зима.
Оккупированная Украина в 1941-1943 гг. была превращена Германией в огромный лагерь принудительного труда с разветвлённой сетью штрафных и карательных учреждений. В это время в Константиновке созданы и функционировали два лагеря: пересыльный для военнопленных Dulag 172 и исправительно-трудовой (штрафной). Условия существования здесь по ту сторону колючей проволоки мы можем сегодня узнать непосредственно из воспоминаний бывшего узника.
Предыистория. В городском музее сохранилось видавшее виды письмо конца 70-х годов, присланное Иваном Иосифовичем Балаевым. Из письма стало известно, что он участник Великой Отечественной войны, а так же узник лагерей на территории Украины и Германии. В то время он начинал работать над книгой своих мемуаров и просил предоставить ему некоторые данные о местном лагере (они приведены по тексту), где он одно время находился в заключении. Однако последующая переписка, если таковая велась, не известна. И чем закончилось его работа - до сегодняшнего времени оставалось загадкой.
Сотрудники музея решили узнать судьбу Ивана Иосифовича и его работы. По конверту удалось подробно восстановить адрес. Однако прошло без малого 45 лет! Поэтому решено было писать в двух экземплярах, второй - на сельский совет по месту проживания. И не зря. Действительно, Иван Иосифович с женой в 2001 году переехали к родственникам в село Большое Болдино. Кстати, интересный факт, в этом селе находится усадьба А.С. Пушкина. Эта история могла закончиться уже на данном этапе, если бы не сработал второй вариант - из сельского совета, за что им благодарность, письмо переслали на новый адрес. Нам ответили его дочь и её супруг - Валентина Ивановна и Анатолий Александрович Пыхонины.
За их отзывчивость от лица музея и всех любителей истории искренне благодарим. В их письме в музей они рассказали следующее. В конце 70-х годов Иван Иосифович направил свою рукопись в издательство военной литературы СССР и получил разгромную рецензию. «Смысл её был в том, что человек, бывший в плену у врага не может писать воспоминания и лучше ему сидеть и не высовываться. Рецензия на полутора листах машинописного текста, написанная полковником, имела 83 грамматические ошибки! После этого рукопись была заброшена и при переезде случайно нами обнаружена. Книга вышла минимальным тиражом в 2005 году. Жизнь не бесконечна и в 2008 году Иван Иосифович скончался. У нас осталось два экземпляра, один из которым мы Вам и вышлем».
Главу «Плен», посвященную пребыванию в лагере Константиновки, из данного автобиографического очерка «Об одном прошу...» воспоминания бывшего военнопленного» и представляем читателям.
 Краткая биография Ивана Иосифовича Балаева. Родился в 1918 году тогда в Нижегородской губернии. В июле 1940 г. поступил в Харьковское военно-медицинское училище. В первые месяцы войны был досрочно выпущен и направлен на фронт воен-фельдшером 5-го эскадрона 161 кавалерийского полка. Участвовал в боях в Донбассе и под Харьковом. В феврале 1942 г. попал в плен. Затем находился в Константиновском, Днепропетровском, Славутском, Львовском, Потсдамском и других лагерях для советских военнопленных. За попытку к бегству был жестоко избит. В апреле 1945 г. с группой военнопленных бежал из Потсдамского лагеря. Был зачислен рядовым отделения связи мотомехбатальона. Участвовал в боях за Потсдам, Берлин и в освобождении Праги. Окончил Горьковский пединститут, кандидат педагогических наук. Опубликовал более 50 научных статей, книгу «Домашний эксперимент и наблюдения по химии» и др.
Краткая биография Ивана Иосифовича Балаева. Родился в 1918 году тогда в Нижегородской губернии. В июле 1940 г. поступил в Харьковское военно-медицинское училище. В первые месяцы войны был досрочно выпущен и направлен на фронт воен-фельдшером 5-го эскадрона 161 кавалерийского полка. Участвовал в боях в Донбассе и под Харьковом. В феврале 1942 г. попал в плен. Затем находился в Константиновском, Днепропетровском, Славутском, Львовском, Потсдамском и других лагерях для советских военнопленных. За попытку к бегству был жестоко избит. В апреле 1945 г. с группой военнопленных бежал из Потсдамского лагеря. Был зачислен рядовым отделения связи мотомехбатальона. Участвовал в боях за Потсдам, Берлин и в освобождении Праги. Окончил Горьковский пединститут, кандидат педагогических наук. Опубликовал более 50 научных статей, книгу «Домашний эксперимент и наблюдения по химии» и др.
На этом переходим непосредственно к воспоминаниям и передаём слово их автору.
А. Новосельский
Ни одна из войн не обходится без пленения противника. Многие войны в прошлом ради этого и начинались. Но перед Великой Отечественной войной мы воспитаны были на том, что все военные действия в будущей войне будут вестись на территории противника и ни о каких пленных с нашей стороны речи быть не может.
В период военных действий ни один солдат или офицер не думал о пленении врагом. В минуты досуга думали о различных путях своей судьбы: можем остаться живыми, могут тяжело или легко ранить, могут и убить. Но попасть в плен? Пленение не мог допустить никто, это не укладывалось в сознании. Это могло быть с кем угодно, но только не со мной. Но судьба распорядилась иначе. …
…Под усиленным конвоем автоматчиков всех невольников, включая и раненых, погнали по улицам Славянска к железнодорожной станции. Мы шли по улицам в сопровождении охранников с собаками. С краю улицы стояли несколько женщин и старик семидесяти-восьмидесяти лет. Он подошел к нашей колонне, заплакал и громко, протянув к колонне руки, сказал:
– Дети! Сынки! Вас повезут в Константиновский лагерь для пленных. Там вы пропадете! Если сможете, в дороге бегите, кто как сможет, но бегите! А то пропадете!
К старику подбежали двое конвоиров и с криком: «Рус, партизан!» прикладами затолкали его в нашу колонну. Мы были ошеломлены таким поворотом событий. За что старика, что он им сделал? На его попытки выйти из колонны, он получил еще дополнительно прикладами по спине. Так и брел старик со слезами на глазах в составе нашей колонны. На другой день, уже в Константиновском лагере, он скончался. Кто ты был, безвестный старик с добрым сердцем и лютой ненавистью к захватчикам? Вечная тебе память...
Колонну окриками и прикладами продолжали гнать по улицам города, раненых поддерживали здоровые военнопленные.
Вдруг мы увидели во многих местах сооружения, которые никак не вписывались в общую картину довольно разрушенного города. Сооружения напоминали кресты, но... не кресты. Тогда я подумал, что ведь немцы католики и протестанты и у них кресты отличаются от православных. Подходим ближе, да ведь это же виселицы! И действительно, на второй из них висит пожилой бородатый мужчина, на третьей – молодая женщина...
Мы были потрясены. Где мы? В средневековье? О виселицах люди моего поколения знали только по книгам.
До пленения мне было известно из газет о зверствах фашистов на временно оккупированной территории. Но одно дело газеты, которым в любое время и при любой власти полностью нельзя доверять, совершенно другое дело увидеть все это своими собственными глазами.
Опять сверлит мозг мысль – бежать! Но как? Кругом охрана, собаки. Броситься на конвоира и погибнуть? Нелепо, глупо. Что этим докажешь! Но и впереди голодная, мученическая смерть, о которой никогда не будут знать ни родственники, ни товарищи по оружию.
Снова и снова вспоминаю недавнее прошлое, провожу самоанализ: почему все-таки произошло так, что ты – комсомолец, воспитанный на условиях советской действительности, попал к врагу в качестве военнопленного? Сам-то ты признаешь степень вины? Если нет, то кто же виноват? Так сложилась судьба. И моя, и тысяч таких же, как я. Сложно искать виновного. Меня охватило отчаяние. Появилась назойливая мысль покончить с собой. В дальнейшем я убедился, что возникновение первых признаков отчаяния, безразличия в условиях плена в фашистских лагерях смерти – опасный признак, прежде всего для самого пленного: он может окончательно опуститься и, в конечном счете, наверняка погибнуть.
Вот и железнодорожная станция. Лающими окриками стали загонять в товарный (телячий) вагон. Человек по 65-68 в каждый. На полу никакой подстилки при суровом январском морозе, а у некоторых нет даже шинелей и шапок. Стемнело, а в вагоне говеем темно. В будках, между вагонами, притоптывая валенками, переговариваются немецкие автоматчики. Вдруг слышим тихую русскую и украинскую речь. Это железнодорожные рабочие прицепляли наш вагон к железнодорожному составу. Они отлично видели, кого и как погружали в вагоны. Железнодорожники подошли поближе, и как бы проверяя молотками и ключами поближе, и как бы проверяя молотками и ключами надежность сцепления, негромко сообщили нам:
– Ребята, вас везут в город Константиновку. Там надежно и прочно немцами оборудован лагерь для военнопленных и гражданских лиц, кормят очень плохо, по поводу и без повода людей избивают резиновыми дубинками. Спать негде узники лежат на полу. На ночь бараки не открывают, люди массами гибнут. Та же участь ждет и вас. Будет возможность, бегите в пути. Иначе вам хана.
Наступило шоковое оцепенение, все молчали. Рабочие-железнодорожники продолжали:
– Нас, не успевших эвакуироваться железнодорожников, немцы собрали и силой заставили работать на станции. Предупредили, что в случае отказа и мы, и наши семьи будут отправлены в лагеря.
Немцы-конвоиры не могли не слышать эти разговоры, но, вероятно, русский и украинский язык им был непонятен.
Постепенно мы пришли в себя, начались возбужденные разговоры. Как быть? Как поступать? Каким образом можно найти из создавшегося положения? С чего начать? А рабочие пока крутятся у нашего вагона, мы их спрашиваем:
– Вы что нам посоветуете? Вагон крепкий и заперт, охрана рядом.
– Побег из этого вагона сейчас невозможен. Попробуйте это сделать в Константиновке. Через 10-12 часов вы будете там. Нам известно, что в лагере работает несколько гражданских лиц: врач из города, несколько электромонтеров, еще кто-то. Они имеют постоянные пропуска в город и из города в лагерь. Попробуйте с ними связаться, может быть, что и получится.
Появилась хоть какая-то надежда, призрачная, иллюзорная, но надежда.
Состав тронулся. Едем медленно, иногда ненадолго останавливаемся. Через шинели проходит пронизывающий холод январских морозов. В вагоне мы все стоим, прижавшись друг к другу, чтобы хоть немного согреться. А также потому, что сесть просто некуда, да и нельзя этого было сделать – из-за сильного мороза снизу всегда дул морозный ветер. Постанывали раненые.
Чуть-чуть стало светать, когда мы подъехали к Константиновке. С криками конвоиры выгнали нас из вагонов. Из лагеря прибыл дополнительный конвой с овчарками. Замерзшие и обмороженные, мы вываливались из вагонов. Раненых и обессилевших выносили на руках. В каждом вагоне остались лежать мертвые наши товарищи.
Подходим к воротам лагеря. На громадной территории расположены полуподвальные, большие бараки. Их было несколько десятков. Вся территория лагеря обнесена в несколько рядов колючей проволокой. По углам – вышки, на которых стоят, расставив ноги, молодые автоматчики. Вдоль колючей проволоки снаружи попарно расхаживают охранники-полицейские. Как потом стало известно, по немецкой классификации это был Константиновский исправительно-трудовой штрафной лагерь каторжных рабочих, располагался он в цехах бывшего химического завода.
Не доходя до ворот лагеря, нас пересчитали. Я с Загайновым находился в хвосте колонны с санитарными сумками. Можно было их и выбросить – там почти ничего не осталось, но по привычке держим их при себе. Во внутреннем лагере оказались вторые ворота. Здесь нас уже встретили русские и украинские полицейские. Мы с Загайновым как-то приотстали на 1-2 шага от колонны и тут же получили по спинам дубинками от полицейских с матерным криком: «Догоняйте колонну!». Примечательно, что первые дубинки мы получили не от немцев, а от «своих», славян.
Пожалуй, за весь период фашистской неволи это первое наказание в моральном, психологическом отношении было самым удручающим. Менее обидным было бы получить первые удары от самих фашистов. Враги есть враги. Но от русских! Это было обидно.
Для советских военнопленных, как оказалось, самым страшным в лагере были не немцы, не комендант, а свои. «Хуже голода и болезней в лагерях донимали полицаи из военнопленных» (Асташков И.С. Воспоминания. Тут и далее ссылки И. Балаева). Как правило, полиция формировалась из людей физически сильных, аморальных, не знавших ни жалости, ни сострадания к своим товарищам. В лагере города Константиновка Сталинской области, «...русские полицейские здоровы, ходят, засучив рукава с плеткой в руках» (Шнеер А. Война. Самиздат. jewniverse.ru).
Полицаев легко было узнать по белой повязке на правом рукаве с надписью на немецком языке: «Полицай» и дубинке в руке. Дубинки были резиновые с металлическим наконечником.
И вот я, комсомолец, воспитанник советских учебных заведений, гражданин СССР, офицер получил две дубинки от русского подлеца-предателя. Потеряв самообладание, рассудок, я хотел вырваться из колонны и дать полицаю сдачи, но удержал меня мой товарищ Загайнов: «Нельзя! Терпи! Сразу убьют!»
По территории лагеря идем строем. Опять встречают немцы, но те, которые выискивают евреев, политруков, комиссаров, командный состав. Зорко всматриваются в проходящую колонну. Последовал громкий окрик:
– Хальт! (Стой!)
Мы остановились. Я до сих пор не могу понять, почему мы не сняли с петлиц знаки различия: два «кубаря» с чашей и змеей. Было столько событий, потрясений. Подходит офицер с унтером, Видят на наших петлицах знаки отличия, по бокам – санитарные сумки и переговариваются между собой: «Доктор, доктор!»
Нас двоих вывели из общей колонны и направили в отдельный каменный барак, который в свою очередь был огорожен дополнительной колючей проволокой. Объективности ради, нужно сказать, что немцы хорошо разбирались в знаках различия офицеров Красной армии. Мы же знаки отличия немецкой армии не знали вовсе.
Привели нас в каменное здание. На грубо сколоченных деревянных нарах лежало 6 человек, трое из них с забинтованными головами, руками и ногами. Один капитан, двое старших лейтенантов, остальные младшие лейтенанты. Все встали со своих нар, познакомились. Рода войск были различные: пехотинцы, танкист с обгорелым лицом, один назвался офицером связи. Один был здоров, не ранен.
Старожилы барака жили там всего полторы-две недели. Знаки воинского различия не снимали. Немцы на это тогда смотрели сквозь пальцы. Товарищи по несчастью познакомили нас с лагерными порядками. В частности, в наш барак приносят баланду и хлеб пленные девушки и женщины. Предупредили: одна маленькая буханка хлеба в смеси с древесными опилками на 8 человек. Но главное все это приносят. Как в ресторане! Во время раздачи баланды в одном бараке, другие запирали на замок. Раздадут в одном, открывают следующий.
Часа в четыре дня девушки принесли «еду». О баланде написано уже много: это просто прокипяченная вода, на дне которой находилась примерно одна ложка подгорелой пшеницы или ржи. Буханку делили точно на 8 равных частей, которые распределялись по жеребьевке. К вечеру в наш барак пришел гражданский врач старичок и сообщил, что завтра нас, военфельдшеров, заберут в «санчасть» лагеря (по немецки «ревир»), Что это: хорошо или плохо, мы не знали. Старожилы рассказали, что в лагере свирепствует сыпной тиф, и кроме того, многие умирают от истощения. Общая смертность составляет 70-80 человек в сутки.
Действительно, на другое утро нас увели в особый барак, который и назывался санчастью. В ней три служебных помещения. Встретил нас тот же врач-старик. Он сообщил, что вместе с санитарами мы будем работать в санчасти. Сразу же предупредил, что никаких привилегий за эту работу немцы не дадут, а работы очень много. Из-за большой скученности и исключительно плохого питания в лагере свирепствует сыпной тиф. Завтра, сказал он, вместе подумаем, как выйти, хотя бы частично, из этого положения. Для лечения сыпного тифа немецкое лагерное начальство никаких лекарств, практически, не выдает. То, что мы имеем: немного бинтов, вату, лигнин – достаем мы сами. Главный бич лагеря, продолжал он, – это сыпной тиф и голод. Внутри лагерные работники из военнопленных и гражданских лиц, т.е. врач, его помощник, нас двое военфельдшеров и санитары, никаких элементарных прав не имеют. Немцы из комендатуры боятся заходить на территорию лагеря, чтобы не заразиться.
Далее он предупредил нас, что подходить к колючей проволоке ближе 5 метров нельзя: охранники расстреливают таких военнопленных без предупреждения. Будете жить рядом, в соседнем бараке. Никаких нар там нет, зато на полу имеется солома. Ночью все бараки, в том числе и санчасть, немцы запирают на замок. Через перегородку в вашем бараке живут пленные девушки. Они находятся под следствием у гестапо и подозреваются в разведке в пользу Красной Армии. На допросах их бьют. А пока они выполняют роль санитарок: разливают и разносят баланду, моют полы, стирают белье.
Врач еще раз предупредил, чтобы мы лишнего ничего не говорили, могут быть провокаторы.
– Я вам помочь могу лишь в следующем: добьюсь того, чтобы к вам не приставали полицаи и не били дубинками, они меня побаиваются, так как в случае заболевания будут лечиться у меня. С завтрашнего дня приготовьте себе белые повязки с красным крестом и всегда их носите на правом рукаве. Всегда! Прошу вас, помните об этом.
И еще, имейте в виду, что не все немцы – фашисты. Среди них есть тоже порядочные люди. Недавно произошел следующий случай. Ночью в пургу большая группа пленных достала какой-то острый предмет, перерезали три ряда колючей проволоки и гуськом все поползли наружу. Причем, часовой все видел, но делал вид, что ничего не замечает. Когда из лагеря выползли человек 110-120, он поднял тревогу. Около 30 человек затем выловили и расстреляли, но около сотни как в воду кануло: ясно, что их спрятало местное население. Из этого факта я делаю вывод, что не все немцы являются врагами и фашистами.
Далее, берегитесь людей, которых часто вызывают в комендатуру и гестапо. Это или уже провокаторы, или их вербуют в провокаторы. Вообще, с людьми, побывавшими в гестапо, желательно не иметь никаких контактов и, уж тем более, не говорить с ними ничего лишнего. Со временем, может быть, и придумаем что-нибудь с вашим освобождением, но для этого нужна тщательная подготовка.
И последнее. Немцы не дураки, не думайте, что вы их можете перехитрить. Особым коварством и хитростью обладают работники гестапо. Все они носят черную форму. Постарайтесь с ними не встречаться. Берегитесь переводчика Иванова. Это подлец из подлецов, мерзавец из мерзавцев. Выдает себя за сына дворянина. По гражданской специальности – инженер. Носит немецкую армейскую форму. Вынюхивает комиссаров, политруков, командиров, коммунистов, евреев и выдает их гестапо. Дальнейшая их судьба известна – расстрел. Для расстрела необходимо согласие начальника гестапо комендатуры лагеря или его заместителя. На днях этот Иванов палкой до смерти забил двоих пленных только за то, что вовремя не уступили ему дорогу. Такие случаи с его стороны не единичны. Так что в лагере свирепствуют не только тиф и голод, но и полнейший произвол.
Мы поблагодарили старика за подробную информацию о жизни лагеря.
Вот так ситуация! Что же, выходит, мы должны служить немцам? Но почему же немцам. Мы должны помогать в меру своих возможностей своим людям, попавшим в большую беду. На наши сомнения по этому поводу старик-врач утвердительно ответил, что в данной ситуации наша посильная работа – не помощь немцам, а служение несчастным соотечественникам.
Повели нас в кирпичный барак, перегороженный на две половины досками. Одну половину занимали женщины, а вторую – санитары, один фельдшер и мы – двое новеньких. Никаких нар, просто на полу тонкий слой гнилой соломы, и все.
Мы, спросив разрешение, вошли во вторую половину, где располагались девушки и средних лет женщины, всего человек 9-10. Нам хотелось выяснить, кто они такие. Судьбы, приведшие их в лагерь, были различные. Одних немцы захватили, когда они в прифронтовой зоне из одного хутора переходили в другой. Другие были заподозрены в сборе разведывательных сведений, хотя женщины это отрицали. Нескольких взяли за укрывательство раненых красноармейцев. В лагере они находились уже длительное время. Гестапо иногда вызывало их, особенно одну, которая подозревалась как разведчица. Несколько позже все они были расстреляны. Только одна подозревалась в разведке, а казнили всех. Кто вы были на самом деле, безвестные героини войны? Об этом мы уже никогда не узнаем.
Утром, когда из города в лагерь прибыл гражданский врач, мы вместе с ним и санитарами стали осматривать все бараки, чтобы отделить сильно истощенных от тифознобольных. Для больных было выделено три огромных барака. В один разместили всех распознанных больных тифом (наличие сыпи на коже живота). Остальных тяжелобольных, которые сами уже не были в состоянии передвигаться, имели отечные ноги, мешки под глазами и раненых разместили в два других барака. На всю эту предварительную работу было затрачено трое суток. Раненым сменили повязки. Перевязывали всем, чем можно было перевязать: бинтами, ватой, полосами чистого белья. Удалось обработать часть ран.
Тифознобольные находились в бреду: стонали, кричали, ругались, произносили нечленораздельные выкрики. Им на лоб клали охлажденные примочки для снижения слишком высокой температуры. Бараки продезинфицировали слабым раствором креозола. Примерно через неделю в одном их бараков я услышал довольно громкий голос:
– Балаев! Балаев! Подойди сюда!
Я быстро повернулся, но не мог понять, кто меня звал. Зовущий понял это, и поманил меня к себе рукой. Я подошел. Глаза, руки, ноги у него отекли, еле передвигается, в штатской одежде. Спрашивает:
– Не узнаешь меня?
Нет, признать не могу, как ни напрягал память. Вглядываюсь в его лицо, никого из знакомых признать в нем не в силах.
– Я военфельдшер Киселев, вместе с тобой учился в Харьковском военно-медицинском училище на фельдшерском отделение.
Только тут я его вспомнил, но он так изменился, что узнать его было невозможно. Поздоровались, обнялись. Немного успокоившись, я спросил его:
– При каких обстоятельствах ты попал в плен и почему на тебе гражданская, а не военная форма?
Он, немного оправившись от волнения и горько-радостной встречи, рассказал мне последний военный эпизод из его фронтовой жизни.
«Шел жаркий бой между немецкой пехотой и нашими частями. Огневая мощь из всех видов оружия с обеих сторон была сильной. Большие потери у немцев и наших. Много раненых. Немцы окружили наш полк, в результате чего не все раненые были отправлены в тыл. Как с ними поступать дальше? Оставить на произвол врага? Рации были разбиты, и связи с другими подразделениями дивизии не было. Командованием полка было принято решение просачиваться мелкими группами через боевые порядки немцев и выходить их окружения. Но как все-таки поступить с ранеными? Тогда комиссар полка вызывает меня и отдает следующий приказ:
– Мы будем выходить из окружения. Такое количество раненых захватить с собой и вынести из плотного кольца вражеского окружения нет возможности. И оставить без присмотра нельзя. Поэтому, исходя из сложившейся обстановки, приказываю вам, военфельдшер Киселев, остаться с ранеными. Иного выхода командование полка не видит. Снимите свою воинскую форму и переоденьтесь в штатское, одежду мы тебе припасли. На правый рукав наденьте белую повязку с красным крестом. Когда подъедут немцы и спросят тебя, кто ты такой, ответите, что вы фельдшер из гражданской больницы такого-то хутора, прибыл присмотреть за ранеными, так как все военные разбежались. Если немцы захватят раненых, то вы уйдете на хутор, и будете ждать наших указаний которые поступят через связного. Вас, как штатское лицо, немцы не возьмут.
Приказ есть приказ, возражать было бессмысленно, и я остался. Перестрелка закончилась, с полчаса была тишина. А потом... потом пошло все наперекосяк.
Подъехали к раненым на грузовой машине немцы. Переводчик спрашивает, кто я такой и как тут оказался. Я ответил, как меня инструктировал комиссар. Переводчик передал мой ответ офицеру. Тот отдал какое-то приказание, и солдаты стали, как поленья дров, бросать в кузов наших раненых, несмотря на крики и стоны. Загрузили машину, сели сами и поехали. Часть раненых осталась. Через 30 минут машина вернулась. Раненых быстро погрузили, но втолкнули в кузов и меня. Привезли нас всех в этот Константиновский лагерь для советских военнопленных. Здесь я побоялся назвать свое воинское звание. Нахожусь тут уже две недели, сильно ослаб и разболелся.
Я предложил ему следующее: «Никуда не уходи. Через 5 минут я вернусь, попрошу главврача, чтобы тебя перевели в барак для больных. Будем лечить!» Я мигом влетел в санчасть и прошу старика-доктора:
– Доктор, один фельдшер, мой товарищ по училищу, тяжело болен, его необходимо как-то подкормить и назначить лечение. И рассказал ему о судьбе парня.
– Немедленно пусть идет сюда, я его осмотрю. После осмотра отведи его в барак, в котором живете, положи его радом с собой. Помните, ребята, нам потребуются еще врачи, фельдшеры, санитары. Больных и раненых – тысячи.
Я мгновенно прибежал к Киселеву. Под руку повел его в санчасть. Помогли раздеться. Врач прослушал состояние легких, сердца и незаметно для него покачал головой. Заменили ему грязное, завшивевшее белье продезинфицированным, постелили еще один слой соломы на полу, подтопили барак и положили. Дали дополнительную порцию баланды, кусочек хлеба. Не ест, говорит, что нет аппетита.
Врач сообщил нам, что он вряд ли долго протянет: у него с большими перебоями работает сердце, воспаление и очаговый туберкулез легких, общее истощение, падение иммунитета. Но лечить будем. Есть немного аспирина, достать бы сульфидина. Главное сейчас для него – немного поесть и попить горячего самодельного чая.
Ухаживали, лечили, кое-как подкармливали, но человек угасал с каждым днем, стал тяжело разговаривать. На восьмые сутки, ранним утром, спокойно, без стонов, он скончался. Умер у меня на руках. Впервые на моих руках умирал мой боевой товарищ и друг.
Доложил врачу.
– Возьми себя в руки, имей в виду, что когда человек теряет веру в свои силы, он быстрее погибает. Не забывай, где мы находимся. Впереди ты увидишь еще не одну смерть.
Страшные лагерные будни продолжались, мысль о побеге постоянно сидела в голове.
Во второй половине февраля потеплело; мы, военнопленные, и этому были рады. Меня закрепили обслуживать барак сыпнотифозных больных. Трудно сказать однозначно, отчего больше умирало пленных – тифа или голода. Пожалуй, все же от голода, да и основная причина самого тифа – дистрофия, недоедание, вши. Общая смертность составляла 70-80 человек в сутки. Умерших хоронила специальная команда. Каждое утро мертвых грузили на автомашины и увозили за пределы лагеря. Предварительно с них снималась одежда и нижнее белье. После стирки все передавалось немцам. Если удавалось что-то припрятать, то обменивалось у полицаев на хлеб.
Большинство больных имеют высокую температуру, бредят. Таким выдаем немного аспирина. Подчеркиваю, не лагерное начальство выдает, а мы «достаем»: часть из своих санитарных сумок, а часть приносит из города врач-старик.
Больных надо кормить, а кормить нечем: баланду люди с высокой температурой не едят, лишь немного хлеба, который немцы для пленных готовят, специального состава – из грубого помола муки, смешанной с тонко перемолотыми древесными опилками. Хлеб этот немцы подвозят к колючей проволоке и перебрасывают через нее на территорию лагеря. Затем полицейские поднимают его и разрезают на порции по 200 грамм. Появилось массовое число больных с желудочно-кишечными заболеваниями, у многих из них кровавый понос: дизентерия. По территории лагеря много ходит людей-теней, по лагерному названию «доходяг». Это совсем безвольные, вконец ослабевшие, опустившиеся люди, на их лица печать безразличия – верный признак того, что человек находится накануне своей смерти. Слабых «поносников» тоже отделяли, а лечить нечем. Часто опускались руки: как помочь и чем помочь?
А как смотрело на всё это лагерное начальство? Оно, как я сейчас полагаю, было заинтересовано в устранении внутри лагеря эпидемии сыпного тифа. Немцев беспокоило не сохранение жизней военнопленных, нет. Они были обеспокоены тем, что эта эпидемия могла перенестись и на самих немцев, которые её очень боялись и не безосновательно.
Немцы были заинтересованы в ликвидации тифа, но… ничего радикального в решении этого вопроса не предпринимали. На просьбу врача оказать помощь больным в улучшении питания, заместитель коменданта и немецкий военный врач дали в грубой форме отказ; на вторую просьбу – помочь медикаментами – тоже отказ; установить нары для больных – тоже отказ.
Но немцы для себя стали широко применять профилактические меры. Они реже стали заходить на территорию лагеря. Немец – военный врач вообще очень редко бывал на территории лагеря и никогда не заходил в бараки. Не заходил даже в санчасть. Весь санитарный персонал из пленных не имел права подходить к немцам ближе, чем на три шага, несмотря на то, что обслуживающий персонал был в халатах. Вообще, все немцы панически боялись сыпного тифа.
Невольно напрашивался вывод: немцы создали для военнопленных такие условия, при которых, чем больше погибнет советских людей, тем лучше для фашистов. Неужели, например, они не могли распорядиться, чтобы полы в бараках для больных и раненых были покрыты значительным слоем соломы, которой имелось вполне достаточно в окрестностях Константиновки. Но они, несмотря на неоднократные наши просьбы, и этого не сделали.
Обслуживающий санитарный персонал долго думал, как выйти из создавшегося положения, хотя бы частично. И этот выход был найден.
На территории лагеря имелас/ь маленькая, примитивная дезокамера (мы ее называли вошебойкой) и небольшая комната для прачечной. Пленные женщины (они тогда еще не были расстреляны), переnbsp;стирали все грязное белье для больных. Это был титанический труд. Потом это относительно чистое белье, гимнастерки, брюки, шинели поочередно пропустили через дезокамеру. На это было затрачено еще 6-7 суток. Боясь распространения эпnbsp;идемии среди самих немцев, они дали на это согласие. Как быть с соломой в бараках – в ней тоже вши? Поочередно бараки дезинфицировал раствором неприятно пахнущего креозола.
Как это было ни тяжело, но элементарный санитарный порядок был создан. Но как быть с питанием и лекарствами? Это самые сложные вопросы в условиях фашистского плена. Именно плена. Как потом выяснилось, немцы создавали еще рабочие команды, которые направлялись на работу на промышленные предприятия к крестьянам на сельскохозяйственные работы. В этом случае команды обеспечивались питанием терпимо. А условия во всех лагерях для советских военнопленных в 1941-42 годах были страшными и кошмарными. Это были лагеря смерти, произвола, величайших унижений.
Легче обстояло лечение раненых (не с полостными ранениями). Были небольшие запасы перевязочного материала, изготовил шины для раненых с переломами костей конечностей. Но с лекарствами было туго. Оказал некоторую помощь гражданский врач санчасти. Он сумел достать крепкий самогон для стерилизации немного спирта, йодной настойки, растворов перекиси водорода и риваноля для промывания и обеззараживания загноившихся ран. Где-то в городе он раздобыл небольшую бутыль с техническим рыбьим жиром, уговорил немцев переправить ее в лагерь. Рыбий жир способствовал заживлению ран своим богатым витаминозным содержанием. После предварительной обработки и лечения больных направляли в «лазарет». Что это был за «лазарет», речь пойдет особо.
Но это одна сторона дела. Вторая сторона – как быть с питанием для тяжелобольных и раненых? Частично вопрос был решен. Дело в том, что бачки с баландой на общей кухне заполнялись поварами в присутствии полицейских, стоящих у котлов с резиновыми дубинками. Врачи остро поставили вопрос перед полицаями и поварами о том, чтобы баланда для больных и раненых отпускалась погуще. Ведь повар из котла черпаком может задеть ее по-разному. Опять сверлит мозг мысль – бежать! Но как? Кругом охрана, собаки. Броситься на конвоира и погибнуть? Нелепо, глупо. Что этим докажешь! Но и впереди голодная, мученическая смерть, о которой никогда не будут знать ни родственники, ни товарищи по оружию.на это согласились. Дело в том, что полицейские побаивались наших врачей: в случае болезни они тоже попадали в санчасть, где лечились военнопленные. Немцы заболевших полицаев не отправляли на лечение в какие-то свои госпитали. Они смотрели на них, в данном случае, как на таких же пленных. Вот почему полицейские согласились на предложение врачей!
Кстати, необходимо заметить, что немцы, когда заходили на территорию лагеря, никаких резиновых дубинок не имели. Эту «роскошь» они поручили своим прислужникам-полицаям. Правда, офицеры имели при себе плетки, но пользовались ими редко.
Энергичную деятельность продолжал проявлять гражданский врач-старичок. Его план заключался в следующем. Во-первых, среди пленных больных есть немного жителей Константиновки или ее окрестностей. Врач договорился с комендантом лагеря, чтобы их родственники имели возможность один раз в неделю передавать небольшие продуктовые посылки больным пленным родным и землякам.
Как ни странно, комендатура на это согласилась. Почему немцы пошли на это, понять до сих пор не могу. Главной причиной мне видится следующая: лагерь находился в распоряжении немецких тыловых армий, и хотя он охранялся очень тщательно, но охрану несли обычные пехотные подразделения. Среди охранных частей в тот период не было эсэсовцев и частей СД, как более жестоких и садистских органов фашистской Германии.
Иными словами, охраняли лагерь солдаты пехотинцы-фронтовики, в том числе и часть офицерства. Некоторые из них, видимо, несколько иначе смотрели на массовые бедствия советских военнопленных.
Как поступали с передачами?
Под руководством врачей, фельдшерам вручалась предназначенная передача больному. Кормили почти силой, но особенно хорошо больные принимали пищу, когда кризис уже миновал. Если больных невозможно было кормить из-за высокой температуры, врач закрывал передачи для пленных в шкаф под замок. Иначе было нельзя. Ведь все были голодными! Если передача, предназначенная для больного, не могла быть вручена из-за смерти больного, по указанию врачей она распределялась среди других больных. Утверждаю, что такое решение в тот период было единственно правильным. Но передачки просуществовали недолго и не носили массового характера.
Еще одним источником пополнения продовольствия был обмен белья на продукты питания у населения. Жители города охотно производили обмен еды на одежду. Одежда с умерших военнопленных стиралась, дезинфицировалась и украдкой от немцев обменивалась командами, которые вывозили трупы за территорию лагеря.
За счет умерших мы часто могли получить дополнительное количество хоть плохого, но все же хлеба. Дело в том, что немцы, как я полагаю, не знали точного количества пленных в лагере из-за большой смертности. Боясь инфекции, пересчет пленных они производили сами редко, доверяя это дело врачам лагеря. Поэтому число умерших занижалось, за счет чего получали дополнительное количество «паек».
Однако все наши усилия не могли коренным образом улучшить обстановку в лагере. Необходимы были элементарные условия: питание и лекарства, а их не было. Многие гибли от желудочно-кишечных заболеваний, воспаления легких, туберкулеза...
Пробыл я в этом лагере двенадцать дней, а на тринадцатый заболел. Появилась высокая температура, врач-старик осмотрел меня и говорит:
– Ваня, у тебя классическая форма сыпного тифа – характерные мелкие точечные пятнышки – сыпь на коже живота. Плюс высокая температура. Ложись в своем бараке. Там уже лежат фельдшер, лейтенант и летчик. Приложим все усилия, чтобы тебя спасти.
Вот так штука! Я отлично представлял, что такое сыпной тиф в условиях кошмарного лагеря, и каков будет его исход. Это означало, что в течение месяца на 80-90% я гарантированно окажусь в братской могиле.
Врач должен всех и всегда подбадривать, пытался успокоить и меня:
– Особенно не тужи – не все же умирают. Ты видишь сам, что некоторые и выздоравливают...
На сердце стало тревожно, тоскливо, появилась апатия, ко всему безразличие. Я понял, что это почти верная смерть, причем в ближайшие недели. Да, я видел, что даже в условиях лагеря очень немногие выздоравливали. Но их было единицы, и они были уже не люди, а живые скелеты, обтянутые кожей. После выздоровления у таких людей появляется сильнейший аппетит. Им необходимо много и хорошо питаться, а еды не было. Поэтому они все равно погибали. Хотя мы и ухитрялись иногда давать таким пленным лишний черпак баланды, но по существу это ничего не меняло в их трагической судьбе. Получалось, что усилия медперсонала в итоге не давали желаемого положительного результата. Смерть ежедневно косила десятки здоровых и особенно больных и выздоравливающих военнопленных.
И вот я лежу. Через несколько дней из-за высокой температуры стал часто и на длительное время терять сознание. Об этом я узнал от персонала значительно позднее. Пролежал с высокой температурой более тридцати суток, большую часть которых был в бессознательном состоянии. По рассказам, почти ежедневно меня и других навещал гражданский врач, старик заставлял санитарок-женщин измерять температуру. Частенько приносил из города по сухарику и, когда мы были в сознании, с каким-то самодельным чаем, почти силком заставлял нас все это есть и пить, а также выхлебывать порцию баланды, которая всегда была противной на вкус.
Ухитрялся старичок добывать в городе какие-то лекарства, которые давали принимать вовнутрь. Использовались какие-то настои трав. Необходимо отдать должное девушкам и женщинам, которые ухаживали за мной и всеми другими больными. Кроме того, они мыли полы в тифозных бараках, раздавали баланду, стирали и дезинфицировали белье, хотя отлично знали, что сами могли заразиться. Все это было до их расстрела.
Пришло время, и кризис моей болезни миновал, температура спала, и я окончательно пришел в сознание. Кто-то дал мне маленькое зеркальце, и я в нем не узнал себя! Волос на голове почти не было, лицо и тело худое, ноги стали тонкими, тусклый, безразличный взгляд.
Врач подбадривает:
– Кризис у тебя миновал, но еще несколько суток надо полежать. Надо бы подкормить, но, кроме баланды, нечем.
Аппетит появился «зверский», но есть было нечего. Иногда персонал приносил нам по сухарику. Как только заснешь, обязательно снится какая-то еда, притом наивкуснейшая. Просыпаешься, ничего нет.
Практикой давно доказано, что из всех существующих испытаний и напастей наиболее тяжело и трудно человек переносит чувство голода. Ни холод, ни боли, ни бессонница не могут сравниться с испытанием постоянного голода.
Врач обнадежил тем, что человек, переболевший сыпным тифом, вторично этой болезнью не болеет, если же заболеет повтор но, то в очень легкой форме. Я об этом знал и раньше, но все дело было в том, что что-то надо есть. За счет умерших стали нам, как и другим больным, выдавать дополнительно по кусочку «опилочного» хлеба. Но все равно еды было недостаточно. И я нашел небольшой выход. Можно не верить, но у меня сохранились часы! Эта вещь в условиях лагеря имела некоторую ценность. Я попросил одного из санитаров узнать у полицаев, сколько хлеба они дадут за исправные наручные часы. Оказалось: две буханки настоящего чистого хлеба. Это же богатство, которое в лагерных условиях никаким золотом нельзя заменить! Бог с ними, часами. Обменял. Подкормился сам и уделил товарищам. Чаще стал бывать на весеннем воздухе. Из города сумели привезти какого-то грязного технического жира по оценке врачей, весьма сомнительного качества. Но рискнули: по одной чайной ложке в день. Жир напоминал деготь, но оказался и он полезен. Дело пошло на поправку. Сыграла свою роль и молодость организма. Снова замаячила, как звезда мысль о побеге.
Вскоре после относительного выздоровления главврач вызвал меня к себе:
– Ваня, у тебя сейчас выработался иммунитет к сыпному тифу, поэтому будешь помогать лечить больных в первом бараке.
Я не стал возражать: ведь это по существу приказ, по крайней мере, старшего по должности подчиненному. Это был барак тяжелобольных тифом. В бараке стоны, бессвязная речь, крики, большинство в бреду. Особая трудность заключалась в том, чтобы не упустить момент, когда больной ненадолго приходит в сознание, и в этот момент силой накормить его баландой и пайкой суррогатного хлеба, провести замер и запись температуры. Кроме того, у многих больных была опасность возникновения пролежней на теле при длительном лежании. Время от времени с санитарами и частью выздоравливающих осторожно переворачивали больных с одного на другой бок.
В повседневной работе притуплялась тоска безразличие, безвыходность и безысходность положения. Было ощущение потребность в тебе со стороны больных, и это успокаивало.
В первые дни было головокружение и общая слабость. Неделю проработал, снова вызывает старик:
– Ваня, в так называемом госпитале для военнопленных возникла страшная эпидемия сыпного тифа, которая косит измученных, изголодавшихся людей. Они – наши, советские люди. Направляют туда переболевших тифом, одного врача и двух фельдшеров. Впрочем, если не желаешь, приказать не могу.
– Что представляет из себя этот «госпиталь»? – спросил я.
Он ввел меня в курс дела.
Госпиталь расположен недалеко от лагерной зоны в двухэтажном каменном здании, огороженный несколькими радами колючей проволоки. По углам территории – вышки с автоматчиками, между вышками с наружной стороны ходят русские и украинские полицейские с винтовками и карабинами. Кроме военнопленного медицинского персонала, там работают два гражданских врача из города. В госпитале тяжелобольные солдаты и офицеры. Внутри территории госпиталя полиции нет. Питание такое же, как и в лагере. Предупредил, что лишнего с больными не говорить – могут быть провокаторы. Может иногда появиться возможность обмена продезинфицированного белья и одежды умерших на хлеб. Но немцы на это идут с трудом. Иногда кое-что приносят для больных гражданские врачи, но на контрольно-пропускном пункте сумки тщательно проверяет охрана. В остальном – полная изоляция от внешнего мира.
Дал согласие перейти работать в этот «госпиталь». С небольшой партией раненых нас пешком под конвоем отправили в эту «лечебницу». Надо отдать должное, что по пути следования нас, истощенных и изможденных людей, конвоиры-немцы не били, хотя это медленное скорбное шествие продолжалось около часа на 2 километра пути. Гражданское население во время нашего шествия по городу к колонне не подпускалось.
При входе в госпиталь старший конвоир протянул охраннику бумагу, нас пересчитали, и ворота были открыты.
Тихо и медленно бредем по территории госпиталя. Здесь, по крайней мере, не видны полицейские с их резиновыми дубинками. Апрельская весна дает о себе знать: кое-где прорастает ярко-зеленая трава.
Нас, фельдшеров и врачей с повязками с красным крестом на рукавах шинелей (об этом позаботился врач-старик – чтобы не получать лишних пинков и побоев в пути), встретил врач госпиталя и отделил от остальных больных и раненых. Провел на первый этаж здания. В бараке были установлены двухъярусные деревянные нары с грубыми матрацами из трухлявой соломы. Окна зарешечены металлическими решетками. До нас здесь жил и работал фельдшер-старик и санинструктор, осетин по национальности. Приведший нас врач, сказал:
– Здесь будете жить. Бараки на ночь запираются на замки. Завтра с утра на работу, больных и раненых очень много.
Утром познакомились с медицинским персоналом из военнопленных.
Спустя неделю после прибытия в госпиталь, врач предупредил нас, что среди санитаров, уборщиков, раздатчиков пищи есть бывшие уголовники, главным образом украинцы по национальности, и посоветовал никаких лишних разговоров при них не вести. Назвал конкретные фамилии. В дальнейшем мы убедились в этом по их тюремному жаргону.
Палаты в бараках были большие, никаких постельных принадлежностей, только грубые тюфяки с гнилой соломой, расположенные прямо на полу.
«Заведовал» госпиталем унтер-офицер, который довольно сносно говорил по-русски.
На просьбу нашего врача поставить деревянные нары, хотя бы для наиболее тяжелобольных и раненых, он получил от унтера грубую отповедь:
– У нас здесь не санаторий и не курорт, а госпиталь для военнопленных враждебной великой Германии армии. Не забывайте об этом, если не хотите попасть в гестапо! Там тебе дадут такие «нары», что больше об них никогда не будешь вспоминать!
Потом больные, услышав этот разговор, после ухода немца, подошли к врачу:
– Доктор, не просите больше о нас. Разве фашисты будут нам помогать? Помощи не будет, а Вы пострадаете.
Для раненых понемногу было: кое-какой хирургический инструмент, вата, перевязочный материал, настойка йода, риваноль. отдельные фармацевтические препараты. Все это было трофейное, то есть наше, изъятое из гражданских медицинских учреждений.
Каждое утро, кроме воскресенья, приходили в госпиталь на работу двое русских штатских врачей – молодой мужчина и девушка, которую звали Надей. Им немцы платили. Поговаривали, что свое свободное время она проводила с немецким унтер-офицером. Судить об этом можно как угодно. А вот что она приносила иногда в госпиталь для тяжелобольных продукты питания – об этом мне было известно. Сам это неоднократно видел. Хотя в то время жители Константиновки сами жили впроголодь. Как-то весной привезли в госпиталь дешевое повидло в двух крупных закрытых жестяных банках. Унтер-офицер берет одну банку и вручает ей, говоря: «За хорошую работу», Надя сказала ему «Данке» (спасибо). Он прекрасно знал, что она эту банку отдаст больным. Так и произошло, через два часа, когда немец ушел, она распорядилась открыть банку и раздать содержимое больным и раненым. Каждому досталось по 20-25 грамм, но это было повидло! Да, она, наверное, встречалась с немцем, но она и помогала военнопленным чем могла.
«Врач «Надя», девичья фамилия Вислогузова, по словам члена подпольной группы города, медицинского работника Федоренко Екатерины Николаевны, уехала с немцами при отступлении» (Письмо автору директора городского музея Донцова Б.Н.). Наступил конец мая, стало совсем тепло, подросла трава. При варке баланды стали добавлять мелко нарезанную крапиву, но врачи предупредили: все тщательно кипятить!
Многие больные были сильно отёчными: много пили воды, а еды было мало. Смертность не уменьшалась. Белье умерших военнопленных немцы брали строго на учет, хотя они им, конечно, не пользовались. Кое у кого были запасные пары белья, полотенца. Небольшую часть из этого сумели обменять на продукты и раздать больным. Но голод, как и в лагере, висел дамокловым мечом над нашими головами. Как выйти из положения?
Один из врачей подсказал следующую идею. Надо из небольшого запаса лекарств отобрать кое-что для населения, например аспирин, пирамидон, настойку йода и другое, но чтобы не обездолить пленных больных. Упросить «Унтера» и двум фельдшерам с этим добром (конечно под охраной) отправиться в ближайшие к Константиновке хутора для обмена лекарств на продукты питания. Фактически, прикрываясь этой акцией, мы собирались просить у населения милостыню, подаяние. У нас мало было надежды, что немцы согласятся на это. Но, как ни странно, унтер-офицер дал согласие, выделив в охрану молодого, мордастого автоматчика. Хотелось и мне попасть в эту компанию, но врач не разрешил. Я был еще слаб после сыпного тифа, и в моей палате лежало шесть тяжелобольных, за которыми был необходим постоянный присмотр. Пошли с корзиной мой товарищ и санинструктор в сопровождении автоматчика.
О побеге им невозможно было и думать, так как все окружающие город хутора были забиты войсковыми частями, но об это они рассказали позднее.
А рассказали они следующее. Узнав, откуда они и для какой цели странствуют под дулом автомата, население встречало их очень дружелюбно. Население говорило, что с продуктами дело у них тоже обстоит очень плохо, много изъято немцами. Но все чем-нибудь помогали. Конечно, наша плата за продукты была чисто символической. Корзина была быстро заполнена: кто кладет кусок хлеба или несколько картофелин, кто яйцо. Собрали 30 штук яиц, даже небольшую баночку масла.
Немец-автоматчик, конвоируя их обратно в город, был все время настороже. Но каково же было удивление и разочарование, когда их привели снова в госпиталь. Немцы из корзины забрали все яйца, масло и часть хлеба (для собак). Пронести в госпиталь разрешили лишь жалкие остатки от собранного. Теперь мы убедились в наивности нашей затеи. Надо же было знать фашистов!
Снова снятся сны о пирогах, ватрушках, хлебе, супе. Когда все это кончится?
Некоторые немцы, свободные от караульной службы, заходили на территорию госпиталя (в палаты они, конечно, не заглядывали – боялись). Запомнился один пожилой немец, сносно говоривший по-русски. Он доброжелательно относился к пленным, особенно к больным. Как-то раз летом, озираясь по сторонам, чтобы не видели его поступка сослуживцы, он передал двум ходячим больным по куску хорошего настоящего хлеба. В разговоре с нашим пленным врачом он рассказывал, что в первую мировую войну он был в плену у русских. Русские к нему всегда хорошо относились и хорошо кормили. Он резко осудил поступок тех немцев, которые отобрали продукты, собранные у населения. Поэтому не все было в плену однозначно, не все немцы были отъявленными фашистами.
Как-то в первой декаде июня 1942 года я зашел в барак для врачей. Из троих врачей на месте было двое. Заходит третий, побелевший и возбужденный. Коллега спрашивает его: «Что случилось?». Он, волнуясь, рассказал нам следующее:
– Несколько дней назад немцы поместили в одну из палат предателя и изменника. У него застаревшая рана на ноге и что-то с кишечником. Называет себя инженером, уроженцем и жителем Сталинграда. Чиновники из гестапо дали ему бумагу, ватман, карандаши, тушь. Он сидит и вычерчивает карту-схему города Сталинграда, наверное, отлично знает свой город. Гестаповцы и вчера и сегодня были у него, интересовались, как идет работа, приносили ему хорошую еду и шнапс. Как поступить с этим подлецом?
– Балаев, пригласи к нам посоветоваться офицера из восьмой палаты, – попросил меня старший из врачей.
Дело в том, что в этой палате лежал раненый в ногу военнопленный офицер с одной «шпалой» в петлицах. Среди врачей поговаривали, что это был комиссар полка. Он лечился в этой палате пятую неделю, мы его хорошо знали, привыкли к нему. Это был обаятельный человек, хорошо разбирался в современной военной и политической обстановке. Во всяком случае, мы ему верили и доверяли, по некоторым вопросам советовались с ним, но и помогали, чем могли, чтобы быстрее залечить рану. Вот за ним меня и послали. Входит.
– Здравствуйте, товарищи, что стряслось?
Доктор рассказал ему об инженере-предателе. В помещении было трое врачей, я и еще один фельдшер. Разговор проходил тихо, при закрытой двери. Спросили мнение капитана. Он задает нам контр вопрос:
– А сами-то как думаете?
– Ликвидировать! - было единодушное решение. Но кто-то из врачей промямлил насчет врачебной этики и клятвы Гиппократа.
– Уважаемый доктор! Идет война, причем, война тяжелая, кровопролитная. Она унесет много миллионов жизней. Каждый честный человек должен помогать своей армии, своему народу, чем может. А этот инженер, что из себя представляет? Он решил помогать врагу, схема-план Сталинграда нужна немцам для какой-то военной цели. Он своим поступком идет против своего народа, против своих земляков сталинградцев. Какая может быть речь о врачебной этике? Капитан был взволнован и разгневан.
Все, решено уничтожить, ликвидировать! Но как?
Цель поставлена, но как ее осуществить, какими путями и средствами? Ведь это надо сделать так, чтобы у гестапо не возникло никаких подозрений в неестественной смерти их приспешника. Иначе пострадают многие люди.
Один из врачей взял риск на себя и под видом обычного укола ввел в вену предателя фенол. Утром немцам стало известно о смерти инженера. Подняли шум, но доказательств насильственной смерти не было, и постепенно все затихло.
В июне в Донбассе наступила теплая сухая погода. Весь день ходячие раненые и больные были на свежем воздухе, уходя из палат-бараков со специфическим запахом карболки. По территории госпиталя можно было ходить, но во многих местах висели предупреждающие таблички на немецком и русском языках: «Ближе 5 метров к проволоке не подходить! Охрана стреляет без предупреждения!».
Постоянно возникал вопрос: «Как там, на фронте, как дома? Как семья?». Свежий летний воздух вызывал еще большее чувство голода.
Как-то раз немецкие конвоиры собрали всех санитаров, фельдшеров, уборщиков, выздоравливающих, всего человек 35-40 и повели через ворота.
Мы недоумевали, куда нас ведут? Но не прошли и 25 метров от ограды, как нас остановили, дали в руки лопаты и приказали: «Рыть». Рыли долго. Яма получилась размером 20x20 и глубиной около 3-х метров. Так была вырыта братская могила, куда складывались трупы умерших в госпитале. А смертность была большая. Мертвые сбрасывались в яму, слой пересыпался хлоркой, который также пересыпался и т.д. Печальная, страшная картина. Невольно задумаешься: «А вдруг в следующем слое будешь лежать и ты?»
Ожидание возможной смерти на фронте, на передовой отличается от этого ожидания в фашистском плену. Там такое состояние приходит редко, в повседневных заботах ратного труда об этом мало приходиться думать. Потом на передовой каждый воин понимает, во имя чего он может быть ранен или убит. А здесь? Здесь ожидание возможной смерти ежедневное, ежечасное. И главное – во имя чего такая смерть?
Летом 1942 года немцы взахлёб стали рассказывать о падении Севастополя. Севастополь был занят немцами 3 июля 1942 года. Героические защитники Севастополя держали оборону города 250 дней и, конечно, оттягивали на себя крупные немецко-фашистские силы. Мы все тяжело переживали падение Черноморской базы.
Запомнился такой случай, Как-то в мае месяце к нам немцы приконвоировали нового военнопленного, военврача I ранга. Был он средних лет, общительным, умел и любил хорошо рисовать. Приходит один немец, говорит, чтобы он нарисовал его портрет с натуры. Приносит хорошей бумаги. Я вошел в камеру к этому врачу и вижу: немецкий солдат сидит на грубо сколоченной табуретке позирует, а врач рисует. При мне же портрет- рисунок был закончен. Сходство было, но не чувствовалось руки профессионального художника. Потом приперся второй, третий...
Но этому доктору прожить в нашем госпитале пришлось не более 6-7 суток. В одно утро его не стало. Врач, живший вместе с ним это непродолжительное время, рассказал следующее. Вчера ночью ворвались в барак четверо вооруженных автоматами эсэсовцев (черная форма) с переводчиком. Назвали фамилию этого доктора. Он встал и вышел к ним. Один из пришедших вынимает из кармана фотографию, сличает с лицом врача. И вдруг крик эсэсовца: «Вег! Раус! Швайнерайн!» (Быстро! Выходи! Свинья!). Утром один немец из госпитальной охраны сказал нам, что это был советский разведчик, и его выследила одна женщина, работающая на немцев. Все, конечно, могло быть...
Фамилия этого доктора из памяти стерлась, потом, если он и был разведчиком, фамилия ничего не означала.
Полицаям-охранникам также разрешалось ходить на территорию лазарета. Кое-кому из больных и раненых удавалось обменять через них случайно оставшееся запасное белье на хлеб.
Вызывали особую жалость курильщики. Больно и жалко было смотреть, как некоторые из них обменивали и без того мизерную пайку хлеба на 3-4 закрутки махорки! В лагере я увидел людей, безумно тянущихся к табачному дыму, все время озабоченных поисками мха, травы, навоза, окурков, – бог знает чего, что можно завернув в бумагу курить. На уговоры врачей был всегда стандартный ответ: «сами знаем, что курим во вред своего здоровья, но бросить не можем». Такие люди быстрее становились отечными, ослабленными. Они быстро опускались, превращаясь в «доходяг», и, в конце концов, быстрее остальных погибали.
В сентябре меня, двоих фельдшеров и троих врачей с очередным транспортом пленных из лагеря, под усиленной охраной, в битком набитых людьми «телячьих» вагонах отправили в тыл. Прошел слух, что отправляют в Днепропетровский лагерь для военнопленных. Так закончилась моя трагическая Константиновская эпопея – первый период мучений, страданий, голода, болезней, унижения и позора. «За 22 месяца фашистской оккупации в г. Константиновка было расстреляно и замучено 15382 военнопленных и мирных граждан. 1424 жителя были угнаны в Германию» (Письмо автору зав. Отделом агитации и пропаганды Константиновского ГК КПУ С. Нестеренко).
26 сентября 1942 года Совинформбюро сообщало: «В Сталинграде на отдельных участках фронта противник вышел к Волге...».
Мы, из культурной группы, должны были поддерживать хорошие отношения с комиссаром. Однажды он пришел ко мне и сказал: «Вас, СС-совцев, переводят в режимный лагерь, это лучший лагерь во всем районе». Я подумал, что он издевается.
Мы пришли в этот лагерь, и, во-первых, не поняли, что это лагерь. Он выглядел, как нормальный жилой микрорайон, там на окнах висели гардины и стояли горшки с цветами. Там нас принял немецкий комендант лагеря, хауптштурмфюрер СС. Он спросил: «Какая дивизия?» - «Тотенкопф». - «Третий блок, доложитесь там старшине». Мы снова были у нас, в СС! Это был лучший лагерь за все мои более чем четыре года в русском плену. Мы работали в шахте, шахта была в 150 метрах от лагеря, после нашей смены в шахте, туда заступала русская смена, у нас не было охраны, мы участвовали во всех социалистических соревнованиях, и ко дню Октябрьской революции, и ко дню рождения Сталина, и лучший шахтер, мы их все выигрывали! У нас был чудесный политический офицер, он привез нам 30 женщин из лагеря для интернированных, у нас был танцевальный оркестр, у нас был танцевальный вечер, но я на нем не был, была моя смена, черт ее побери. И вот теперь сенсация! Мы получали зарплату, столько же, сколько и русские. Я повторяю, мы получали столько же, сколько и русские! И даже больше, потому что мы работали намного старательней, чем они. И деньги приходили к нам на счет. Но все деньги мы снять не могли, мы должны были перечислять с наших счетов 456 рублей за расходы на нас в лагере.
В июле 1948-го года наш политический офицер, который не провел с нами ни одного политического занятия, потому что он сразу сказал, что нам это все равно до лампочки, нам сказал, что до конца 1948-го года в России не останется ни одного немецкого военнопленного. Мы сказали, ну, хорошо, и начали ждать. Прошел август, прошел сентябрь, наступил октябрь, нас построили и рассортировали по разным лагерям, так было во всех лагерях в нашем районе. В этот момент мы действительно боялись, что нас всех расстреляют, потому что он сказал, что до конца 1948-го года в России не останется ни одного немецкого военнопленного. В этом лагере мы не работали, но деньги из прошлого лагеря были у меня на счету, я покупал продукты, угощал товарищей, мы отлично отпраздновали Рождество. Потом меня перевели в другой лагерь, я попросился опять на работу в шахту, потом перевели в еще один лагерь, и там мы опять работали в шахте. Там было плохо, лагерь был далеко, условия были плохие, не было кабинок для переодевания, были смерти на производстве, потому что безопасность труда была плохая.
Потом этот лагерь ликвидировали, и я попал в Днепропетровск, там был гигантский автомобильный завод, мастерские, станки из Германии. С материалами там обращали очень расточительно, если за пару минут до конца рабочего дня привозили бетон, то его просто оставляли лежать до завтра, и он засыхал. Потом его ломали ломами и выкидывали. Готово. Мы грузили кирпичи, все брали по четыре кирпича, по два под руку, а один брал только два. Русские спросили, это что, почему ты берешь только по два кирпича, а все остальные по четыре? Он сказал, что все остальные ленивые, им лень ходить по два раза.
16-го декабря 1949-го года, мы спали в большой казарме, неожиданно раздался свисток и команда собрать вещи, сказали, что мы едем домой. Зачитали список, мое имя тоже там было. Я особенно не радовался, потому боялся, что еще что-нибудь поменяется. На остаток моих денег я купил в столярной мастерской два больших деревянных чемодана, 3000 сигарет, водку, черный чай и так далее, и так далее. Мы замаршировали пешком через Днепропетровск. Русский комендант лагеря хорошо знал немецкие солдатские песни и скомандовал, чтобы мы пели. До самого вокзала в Днепропетровске мы пели одну песню за другой, и «Мы летим над Англией», и «Наши танки едут вперед по Африке», и так далее, и так далее. Русский комендант лагеря получил удовольствие. Вагоны, были, конечно, товарные, но в них была печка, мы получили достаточно продовольствия, двери не запирали, и мы поехали. Была зима, но в вагонах было тепло, нам все время давали дрова. Мы приехали в Брест-Литовск. Там нас поставили на запасной путь, и там уже стояли три поезда с военнопленными. Там нас еще раз обыскали, у меня была фляга с двойным дном, которую я украл у русских, там у меня был список имен 21-го товарища, про которых я знал, как они погибли, но все обошлось. В Брест-Литовске нас продержали три дня, и мы поехали во Франкфурт на Одере.
На товарной станции во Франкфурте на Одере к нашему поезду подошел маленький немецкий мальчик с авоськой и попросил у нас хлеба. У нас было еще достаточно еды, мы взяли его в наш вагон и накормили. Он сказал, что он за это споет нам песню, и спел «Когда в России кроваво-красное солнце тонет в грязи...», мы все заплакали. [«Когда на Капри красное солнце садится в море...», Capri Fischer, немецкий хит того времени.] Железнодорожные служащие на вокзале выпрашивали у нас сигареты. Ну, ладно.
Нас привезли в еще один лагерь, мы еще раз прошли очистку от вшей, нам выдали чистое белье, русское, и по 50 восточных марок, которые мы, конечно, немедленно пропили, зачем они нам в Западной Германии. Еще каждый из нас получил пакетик из Западной Германии. Нас посадили в пассажирский поезд, может быть даже скорый, но дорога была одноколейная, и мы должны были ждать каждый встречный поезд. Мы в очередной раз остановились прямо у какого-то полностью разрушенного вокзала, к нашему поезду подошли люди и просили хлеб. Мы поехали дальше в Мариенбон. Там был конец, утром мы перешли границу Западной Германии. Там были русские, была нейтральная полоса, русские говорили, dawaj, raz, dwa, tri, и мы перешли границу.
Нас принимали, все были там, политики, католический священник, протестантский пастор, Красный крест и так далее. Тут мы неожиданно услышали ужасный вопль, как мы потом узнали, там забили до смерти одного антифашиста, который многих отправил в штрафные лагеря. Тех, кто это сделал, увела полиция. Мы были в Фридланде. Я разобрал мою флягу, отдал список из 21-го имени в Красный крест. Я прошел медкомиссию, мне выписали демобилизационное удостоверение, на него мне поставили штемпель «СС». Теперь я хотел попасть домой как можно быстрее. Я пошел на вокзал, сел в поезд, потом сделал пересадку, в любом случае, 23-го декабря я опять был дома.
Я был рад. Англичане, конечно, нас подчистили, в доме больше не было ковров, исчезла одежда, и так далее, и так далее. Но, все получилось хорошо, я опять был дома. Я должен был прописаться, это было в городе, потом я пошел в социальное бюро, я хотел получить пенсию или пособие за мое ранение в легкое. Там увидели мое демобилизационное удостоверение со штемпелем «СС», и сказали, а, СС, идите отсюда, мы про вас знать не хотим. Моя дядя устроил меня работать слесарем по машинам, потом я там постепенно стал мастером.
В немецком плену, побег и скитания по Украине
Письмо красноармейца Александра Шапиро
Утром 21 октября 1941 года при переходе реки Сула в Полтавской области я оказался в окружении и попал в плен. Немцы нас сразу отправили в степь. Там отбирали евреев и командиров. Все молчали, но немцы, проживавшие в Советском Союзе, выдавали. Вывели тридцать человек, издевательски раздели, забрали деньги, часы и всякую мелочь. Нас повели в село, избили и заставили рыть ров, поставили на колени, кричали: «Юдише швайне». Я отказался рыть ров, потому что знал, что это для меня. Меня сильно избили. Начали расстреливать и брали за ноги, и кидали в ров.
Я сказал переводчику, что я узбек, а жил в Азербайджане. Я был черный, весь заросший, с черной бородой и черными усами. Меня ударили палкой по голове, погнали в сарай. Подошла чужая женщина, протянула мне рваный картуз и шапку, больше у нее ничего не было. Она назвала немцев разбойниками, говорила: «За что вы их расстреливаете? Они свою землю защищают». Ее сильно избили, и она ушла.
Кормили нас просом и каждый день избивали. Так я промучился восемнадцать дней. Пришел комендант и сказал, что нас погонят в Львов, а оттуда в Норвегию. Я обратился к ребятам, сказал, что я родился на Украине и здесь умру, и надо удирать. В эту ночь убежали сто человек, но мне с ними не удалось уйти. Нас выстроили. Мы спрятались в свинарнике, было тепло, и нас не нашли, немцы кричали: «Русс, выходи», но мы молчали. Я дошел до соседнего хутора, там сказали, что немцев нет, накормили и показали дорогу. Я решил идти к Харькову. Я проходил через оккупированные города и села, видел издевательства, насилия над нашими братьями, виселицы и дома терпимости, видел всякие грабежи. Проходил через Днепропетровск, где я родился и жил. Узнал, что мой родной брат и его семья расстреляны. 15 октября 1941 года немцы расстреляли тридцать тысяч мирных жителей моего родного города, а я был в Днепропетровске 24 октября. Я пошел дальше, был в Синельникове, повидал тайно моего двоюродного брата, его жену и детей. Их немцы ограбили, избили, но в Синельникове тогда еще не было гестапо, и поэтому двоюродный брат с семьей еще были живы. Шел через Павлоград, узнал там, что мой другой двоюродный брат убит, как и четыре тысячи жителей Павлограда. Видел и читал тупоумные объявления немцев, в которых ничего не было сказано об убийствах и грабежах. Видел, как немцы забирали пшеницу и отправляли ее на запад, и как они забирали одежду, постели, скот.
Шел я по насыпи, видел, как шли на грабеж немцы, итальянцы, румыны, венгры. Итальянцы двигались на ослах в Лозовую, с ними венгры, а на юг шли румыны. Я шел и с вилами, и с ведром, и с кнутом. Был я обросшим и походил на старика. Так я дошел до фронта и перешел фронт.
Красноармеец Александр [Израилевич] Шапиро
Из книги Красная книга ВЧК. В двух томах. Том 1 автора Велидов (редактор) Алексей СергеевичПОКАЗАНИЕ АЛЕКСАНДРА ВОЙНОВСКОГО, КРАСНОАРМЕЙЦА, СОСТОЯЩЕГО В РАСПОРЯЖЕНИИ РЕВТРИБУНАЛА Г. МОСКВЫ. СОЛЯНКА. № 1 6 июня в 9-м часу вечера мы шли в Замоскворецкий партийный комитет на собрание. Недалеко от Устьинского моста меня задержал конный патруль – 4 человека, там же
Из книги Падение царского режима. Том 7 автора Щеголев Павел ЕлисеевичШапиро, М. Н. ШАПИРО, Манель Нахумович, купец 1 гильдии. Манасевич-Мануйлов разновременно выманил у Ш. 350 р. III, 175,
Из книги Как спасти заложника, или 25 знаменитых освобождений автора Черницкий Александр МихайловичМИНИСТРЫ В ПЛЕНУ Карлос Шакал пытался шутить с Валентином Фернандесом Акостой - министром нефтяной промышленности родной Венесуэлы. Саудовского шейха Ахмада Заки Яма-ни террорист оскорблял, надеясь, что тот вспылит и его можно будет пристрелить. Ямани и нефтяного
Из книги Нацизм и культура [Идеология и культура национал-социализма автора Моссе ДжорджКурт Карл Эберляйн Немец в немецком искусстве Искусство не всегда объективно. Оно зачастую выступает против романтизма, называя натурализмом романтику «морской живописи». Часто можно слышать выражение: «Дух в условиях, в которых мы творим, является определяющим». И этот
Из книги Бандиты времен социализма (Хроника российской преступности 1917-1991 гг.) автора Раззаков ФедорЗадача прославления Христа в немецком народе Принципы нового порядка в евангелической церкви с учетом требований времениВ соответствии с опубликованным декретом, подписанным фюрером и рейхсканцлером 15 февраля 1937 года, церкви предписано при сохранении полной
Из книги В поисках истины автора Медведев Матвей НаумовичПобег в Москве - Побег в Якутии В июне 1990 года на территории СССР были отмечены первые подделки банковских документов. Занималась этим преступная группа Владимира Финкеля и директора молодежного коммерческого центра «Зенит» Владимира Золы. Именно эта группа была одной
Из книги Зверства немцев над пленными красноармейцами автора Гаврилин И. Г.В ПЛЕНУ ВЕЩЕЙ Есть дела, с которыми не сталкиваются ни работники милиции, ни следователи прокуратур. Они попадают прямо к народным судьям. Приходит на прием посетитель, побеседует с судьей и оставляет заявление с наклеенными на него синими марками госпошлины. Заявление
Из книги Глубина 11 тысяч метров. Солнце под водой автора Пикар ЖакМОРИЛИ ГОЛОДОМ, МУЧИЛИ И ИЗДЕВАЛИСЬ Рассказ красноармейца Степана Сидоркина Во время боя в районе села Каменка меня ранило в грудь, и я потерял сознание. Очнувшись, я увидел вокруг себя немцев. Они обливали меня водой, подносили к телу горящие спички. Таким вот способом
Из книги Черная Книга автора Антокольский Павел Григорьевич54. Сальпа в плену Часть воскресенья уходит у нас с Доном Казимиром на то, чтобы разобрать насос планктонной ловушки. Не знаю, станет ли она работать лучше, но теперь я хоть уверен в ее исправности, а раньше сомневался. Включаю на сорок пять минут наружный светильник
Из книги Неизвестная «Черная книга» автора Альтман ИльяИСТОРИЯ МИНСКОГО ГЕТТО. По материалам А. Мачиз, Гречаник, Л. Глейзер, П. М. Шапиро. Подготовил к печати Василий Гроссман. 28 июня 1941 года на улицах Минска стоял гул немецких танков. Около 75000 евреев (вместе с детьми), не успев уехать, остались в Минске.Первый приказ предлагал,
Из книги Легенды Львова. Том 1 автора Винничук Юрий ПавловичТРАГЕДИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ. Письмо красноармейца Киселева. Подготовил к печати Илья Эренбург. С Вами знакомится солдат Красной Армии, Киселев Залман Иоселевич, житель местечка Лиозно, Витебской области. Мне идет пятый десяток годов. И жизнь моя изломана, и кровавый сапог немца
Из книги автораПИСЬМО КРАСНОАРМЕЙЦА ГОФМАНА (Краснополье, Могилевской области). Подготовил к печати Илья Эренбург. Я напишу еще об одной трагедии: о краснопольской. Там погибло 1800 евреев и среди них моя семья: красавица дочка, больной сын и жена. Из всех евреев Краснополья чудом уцелела
Из книги автораЧто я пережил в фашистском плену Письмо девятилетнего Бори Гершензона из Умани в Еврейский антифашистский комитет Дорогие дяди, я сейчас опишу вам, как я мучился у фашистских извергов. Как только прибыли немцы к нам в город Умань, нас всех загнали в гетто. Среди нас были
Из книги автораВоспоминания врача Цецилии Михайловны Шапиро Цецилия Михайловна Шапиро, 1915 года рождения, врач, до войны проживавшая в г. Минске, рассказывает.Война застала ее в родильном доме непосредственно после родов. С пятилетним сыном, новорожденным ребенком и старухой-матерью
Из книги автораВ плену (Минский лагерь) Воспоминания красноармейца Ефима Лейнова Наша часть попала в окружение. Это было в Черниговской области. Я побывал в четырех лагерях: в Новгород-Северске, в Гомеле, в Бобруйске и в Минске. Описать все ужасы невозможно. Остановлюсь на последнем
Из книги автораВ плену у русалок Когда-то берега Полтвы за городом зеленели буйными лугами, в которых аж в глазах рябило от разноцветных бабочек, стрекоз и кузнечиков, а стрекот стоял такой, что в голове гудело. И вот в те блаженные времена жил себе на Голоске Мартын Беляк, с которым
Тамурбек Давлетшин.
Из Казани в Берген-Бельзен. Воспоминания советского военнопленного.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005
Эта необычайно ценная и интересная книга повествует об одном годе в плену (с июня 1941 по май 1942 года) одного советского военнопленного. Автору воспоминаний Тамурбеку Давлетшину повезло - он не попал в число двух с лишним миллионов собратьев по плену, не доживших до конца войны. Воспоминания предваряются очень живым предисловием дочери автора Камиллы Давлетшин-Линднер. Послесловие Рольфа Келлера, одного из лучших в Германии специалистов по советским военнопленным, прекрасно дополняет текст воспоминаний и дает необходимый исторический контекст. (Келлер нашел даже личную карточку Давлетшина, которая помещена на обложке книги).
В армию Тамурбек Давлетшин был призван в июне 1941-го, а уже 13 августа, испытав на себе все прелести жизни окруженца, попал в плен (лейтмотив воспоминаний - вражеские самолеты, которых окруженец приучается бояться больше всего). Поначалу он даже почувствовал облегчение, полагая, что война для него закончилась. Но марш-бросок к сборному пункту без еды расставил все по своим местам. (Интересно, что именно теперь, когда Давлетшин шел в строю, прилетели, наконец, свои самолеты - но не для того, чтобы защитить, а чтобы расстрелять колонну).
Маршрут военнопленного Давлетшина был таков: сначала Сольцы (видимо, полковой или дивизионный сборный пункт); затем Порхов - армейский сборный пункт для военнопленных, оттуда - по этапу, пешим ходом, в Ригу (шталаг 350 ), где он пробыл восемь недель; затем Тильзит, точнее, Погеген близ Тильзита (офлаг 53 ); потом Нижняя Саксония, Фаллингбостель (шталаг XI B), куда он попал с одной из первых партий, но получил весьма солидный идентификационный номер - 120453. Отсюда, из-за угрозы эпидемии тифа, в начале декабря 1941 года пленных перевели в Берген-Бельзен, но тиф пришел и туда, и лагерь был закрыт на карантин вплоть до февраля 1942 года. Люди мерли, как мухи, иногда до 200 человек в день, а всего до мая, когда тиф прекратился, умерло 15-18 тысяч человек (Давлетшин, кстати, был писарем в лазарете). Закономерность, которую, подобно другим военнопленным «со стажем», открыл для себя Давлетшин: чем дальше ты находился от линии фронта, тем хуже становилось отношение немцев.
Одна из главных тем книги - еда. Поскольку СССР не подписал Женевскую конвенцию, суп советских военнопленных серьезно отличался от супа, скажем, сербских военнопленных. Но и будучи вечно голодным, Давлетшин старался есть поменьше и не все подряд, чтобы избежать расстройства желудка, ибо такое расстройство, как он прекрасно понимал, означает конец. Песок в пище для него неприемлем не потому, что он такой гордый, а потому, что это прямая угроза здоровью, и он предпринимает попытку протеста, едва не стоившую ему жизни (его жестоко избили). Кстати, весьма интересный сюжет, представленный в книге, - теневая экономика лагеря, черный рынок с его правилами и ценами. Вот какими были, например, товары и цены в Порхове: пайка - 35 руб., порция баланды - 10 руб., махорка на одну закрутку - 3 руб., консервная банка под котелок - 10 руб. Это, так сказать, ширпотреб, товары на каждый день. Но существовали и «предметы роскоши», например, часы. Свои Давлетшин продал заведующему складом за 900 руб., а потратил он их так: 35 отдал за шинель, 100 - за пару чистого белья, 40 - за котелок . А вот цены черного рынка в Рижском лагере: талон на баланду - 7 руб. (в полтора раза дешевле, чем в Порхове), буханка хлеба - 60 руб. (в городе - 1 руб. 80 коп.), махорка на одну закрутку - рубль .
Но был в лагерях для советских военнопленных еще один «черный рынок» - рынок жизни и смерти. За выданного товарища (комиссара или еврея) лагерное начальство премировало тех, кто их выдал, - хлебом, дополнительной пайкой или портянками с преданного мертвеца. Отношение к такого рода расправам и их жертвам много говорит о личности мемуариста. Вот два эпизода из книги Давлетшина, рассказывающих о положении военнопленных-евреев.
«Напротив меня один бледный и нервный молодой человек сидел среди своих товарищей, молча занимавшихся своим делом, и всячески поносил еврея, одиноко сидевшего в нескольких шагах от него с перепуганным видом. Он расходился все больше и больше:
- Жид ты проклятый, поганишь землю, - говорил он. - Хочешь, я тебе набью морду?.. - С этими словами он быстро поднялся со своего места, перебежал через лежавших людей к еврею и стал бить его по голове. Молоденький еврей молчал, как будто набрал в рот воды».
Это в июле 1941 года в Порхове. А вот ноябрьская картинка, Тильзит:
«Перед полуднем появилось несколько полицейских… Они построили пленных в два ряда, лицом к лицу, и, медленно проходя между ними, смотрели каждому в лицо. Впереди шел старший полицейский, человек огромного роста, за ним следовали его помощники - они искали среди пленных евреев и других нужных им лиц. Остановившись против одного пленного, полицейские стали расспрашивать его:
- Откуда?
- С Украины.
- Как фамилия?
- Зенько.
- Зенькович? - полицейский уставился на него. Пленный растерялся и стал заикаться.
- Нет, Зеньк... Зенько.
- А как имя?
- Михаил?
- Моша?
- Нет, М... М... Миша.
- Жид?
- Нет, украинец.
- Украинец? Расстегни штаны, мы тебе сейчас скажем, кто ты!
Маленький худенький еврей, лет 23-х, испугался насмерть, стал весь бледный, не знает, что делать. В палатке наступила гробовая тишина, сотни глаз смотрели на него: расстегни штаны - все равно узнают. Впрочем, были случаи, когда евреи скрывались под видом мусульман; в частности, до самого Берген-Бельзена среди татар скрывался один еврей, который так и не был открыт немцами и умер от поноса. Но были, наоборот, и другие случаи, когда неосведомленные немцы, по одному наличию обрезания, мусульман принимали за евреев и расстреливали.
Полицейские так прижали пленного, что ему было некуда деваться, и он сознался. Что он еврей. Старший полицейский, обратившись к своим помощникам, произнес недовольным тоном:
- Я же вам сказал, что нужно тщательнее проверять вновь прибывающих. Чего вы смотрели? Вывести его за лагерь!
Двое полицейских повели еврея “за лагерь”, и больше он не вернулся...»
Давлетшин, сам политрук и обрезанный мусульманин, не уклоняется от таких описаний, но и не позволяет себе никакого сочувствия и эмоций, кроме разве что той, что и мусульман иной раз пускали в расход «по ошибке». Но пора уже сказать о личности и судьбе автора, а также об истории рукописи.
Начнем со второго. История текста изложена в послесловии Рольфа Келлера, в котором сообщается, что существует не одна, а две машинописные версии воспоминаний: одна - у дочери Давлетшина, а другая - в Гуверовском институте в Стэнфорде, куда ее сдал сам Давлетшин вскоре после войны. К сожалению, Келлер забыл сказать, что копия стэнфордской машинописи упала не с неба, а была передана ему автором этих строк, который, в свою очередь, обязан знакомством с нею филологу Елене Фостер из Нью-Йорка и архивисту Ольге Данлоп из Стэнфорда. Всех троих можно было бы и упомянуть. Совершенно ясно, что упущение это не намеренное, а чисто случайное. И дело не в именах, а в том, что наличие альтернативного источника - не просто библиографическая подробность, украшающая комментарий или статью. Здесь возникает проблема выбора наиболее авторитетной, а стало быть, предпочтительной для издания версии. Камилла Давлетшин-Линднер предпочла «домашнюю». Но многое говорит о том, что именно 215-страничный стэнфордский вариант, практически подготовленный автором к печати, отражает его эдиционную волю. У него есть название - «Люди вне закона. (Записки советского военнопленного в Германии)»; на титуле указан автор (правда, скрывшийся под псевдонимом «И. Иделев» ) и даже псевдопубликатор, т. е., сам автор, рассказывающий в преамбуле о том, как к нему попала эта рукопись. Но главное: эта версия имеет законченный вид, тогда как «домашняя», насколько можно судить по рецензируемой книге, является частью более обширных воспоминаний.
Стэнфордский текст открывается следующими словами: «Если бы человеческие страдания можно было выразить в цифрах, то в колонках военной статистики они занимали бы первое место. Большим заблуждением является общепринятое мнение, что война - это стрельба, пушки, танки, самолеты. Нет, война - это голод и холод, вши и болезни, это - плен и издевательства и не поддающиеся описанию душевные муки.
Не смерть является самой тяжкой участью людей на войне, а обесчеловечение их, низведение их до состояния животного, прежде чем они умрут. Я был свидетелем этого страшного процесса постепенного обесчеловечения людей. Попав под Новгородом в плен к немцам, вместе с тысячами других я перебрасывался из лагеря в лагерь, был в Порхове, Риге, Тильзите, Фаллингбостеле, Берген-Бельзене и видел, как люди, по мере передвижения на запад, под влиянием тяжелых условий жизни теряли человеческий облик. Люди, которые во время многодневного этапа без пищи и воды под конвоем немецких солдат от Новгорода до Порхова, делили свою шинель ночью с теми, кто ее не имели, плакали, как дети, при смерти товарищей, делили с другими по чайной ложке имеющуюся у них воду и помогали друг другу во всем, чем могли, - эти самые люди в Берген-Бельзене ели друг друга.
Во всех войнах наибольшие испытание переживали военнопленные, но страдания, которым подвергаются советские военнопленные в Германии, едва ли имеют прецедент в истории. Тяжелая участь их объясняется не только тем, что они попали в руки жестокого врага. Но в гораздо большей степени тем, что их собственное правительство, вопреки общепринятым международным традициям, отвернулось от них…»
Концовка стэнфордской версии - продуманный, нарочитый обрыв:
«Наступил май месяц. Тиф в лагере уже давно прекратился, лагерь стал ожидать распоряжения об отправке на работу пленных, оставшихся в живых. Наконец, начались отправки мелкими партиями, в одну из которых попал и я. Завтра утром мы уходим из лагеря: куда - не знаю, что нас ожидает - неизвестно...». В «домашнем» варианте этой преамбулы нет. Вместо нее - текст, посвященный, главным образом, Мусе Джалилю и зверствам НКВД. Завершает книгу некое «продолжение» оборванного текста - рассказ о пребывании реального автора в лагере Вольвайде, где жизнь его резко меняется.
Итак, с одной стороны - цельное произведение, описывающее жизнь автора в качестве советского военнопленного, с намеренным использованием псевдонима и четким нежеланием касаться других тем и эпизодов. С другой - фрагмент явно большего целого, причем вырезанный так, что от фигуры «инкогнито» ничего не остается. Повод достаточный, чтобы задуматься над тем, правильное ли текстологическое решение было принято публикаторами.
Зададимся еще одним вопросом. Зачем простому военнопленному понадобился этот розыгрыш, этот литературный прием, казалось бы совершенно неуместный для жанра солдатских воспоминаний? Судя по всему, этот трюк с «чужой рукописью» и говорящий псевдоним «Иделев» автор придумал отнюдь не случайно. Явно надеясь на публикацию в будущем, он просто-напросто заметал следы. Разводя «автора»-Иделева и «хранителя»-Давлетшина, он хотел направить читателя по ложному следу, чтобы заставить его не интересоваться ни доходягой-«автором», ни, тем более, случайным «хранителем».
Тамурбек Давлетшин родился 26 мая 1904 года в татарском селе Силидьяр близ Уфы. Его отец выучил русский язык и стал писарем в управе. Сын, пройдя через Гражданскую войну, желтуху и тиф, с 19 лет исполнял обязанности секретаря окружного суда. В 1924 году он поступает на юридический факультет, а затем в аспирантуру сначала Казанского, потом Иркутского университета. В 1932 году Давлетшин возвращается в Уфу, работает в Институте технико-экономических исследований и вступает в коммунистическую партию. В 1934 года становится директором института. Большой террор обходит его стороной. С женой и тремя детьми Давлетшин перебирается в Казань, где становится консультантом при правительстве Татарской республики, как вдруг 21 июня 1941 года его призывают в армию.
Теперь о том, что произошло с автором после описанных в книге событий.
Согласно Келлеру, 23 апреля 1942 года Давлетшина из Берген-Бельзена переводят в специальный лагерь Вольвайде. Его учебный лагерь для пропагандистов вермахта - выпускники должны были вербовать военнопленных в РОА и выполнять задания на оккупированной территории. Про узника этого лагеря уже не скажешь, что он попал сюда против своей воли. 7 июля 1942 года Давлетшина «вывели из состояния плена» , после чего он мог свободно перемещаться по Берлину и встречаться с кем угодно. Около месяца Давлетшин проработал на радиостанции «Винета» , но тут его неожиданно арестовали и так же неожиданно выпустили. Еще некоторое время он работал на «Винете» в качестве переводчика, а потом перешел в татарское подразделение розенберговского Министерства по делам оккупированных восточных территорий, где познакомился с профессором Герхардом фон Менде . По воспоминаниям дочери, Давлетшин всегда настаивал на том, что не имел ничего общего ни с Татарским легионом , ни с пропагандистским журналом на татарском языке (назывался он, кстати, «Итиль»), а просиживал все дни в библиотеке, писал статьи и работал над немецко-татарским словарем, который был выпущен в 1944 году и за который он даже получил гонорар. В том же 1944-м Давлетшина эвакуировали в Дрезден, где ему сделали операцию на горле, а затем отправили на курорт на Боденское озеро.
Здесь его и застал конец войны. С 1946-го по 1950-й Давлетшин находился в санатории в Шварцвальде, где подружился с хозяевами-врачами (это спасло его от насильственной репатриации в СССР). В 1951 году он перебрался в Мюнхен и начал работать на радиостанции «Свобода» - сперва простым сотрудником, а потом директором исследовательского института. Его приглашали переехать в Гарвард, но он отказался из-за состояния здоровья. В 1953 году Давлетшин женился на немецкой учительнице, родившей ему дочь Камиллу. В конце 1960-х он смог увидеться со своими двумя сыновьями от первого брака. В 1968-м Давлетшин вышел на пенсию. Он умер в Мюнхене 7 сентября 1983 года.
Итак, перед нами книга человека, сумевшего приспособиться, уцелеть и вписаться и в советскую довоенную жизнь, и в немецкую военную, и в послевоенную западногерманскую. Рассказывает он о себе как о военнопленном, но рассказывает только потому, что уцелел, а уцелел бы он без того, чтобы стать коллаборационистом? Едва ли.
Попытка представить себя противником - и одновременно жертвой! - обеих систем типична для человека с такой судьбой. Если Давлетшин и боролся за что-то всерьез, то за выживание, и преуспел в этом. Тем более ценным является его свидетельство о том единственным периоде, когда он действительно был жертвой - о неполном годе жизни советского военнослужащего в немецком плену.
Hg. von der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung und dem Wissenschaftlichen Beirat für Gedenkstättearbeit.
Stammlager - стационарный лагерь для рядового и сержантского состава.
Offizierlager - стационарный лагерь для офицерского состава.
Потом этот котелок у Д. украдут, и он с трудом (при помощи немцев) вернет его обратно.
Рубли имели хождение в Риге. Официальный курс - 10 руб. за 1 рейхсмарку.
От «Итиль», названия Волги по-татарски.
Формально это означало изъятие пленного из юрисдикции вермахта. Без такой процедуры пленного не могли даже перевести в концлагерь: концлагеря, как известно, подчинялись СС.
Специальная служба Имперского министерства просвещения и пропаганды, занимавшаяся различными видами пропаганды и контрпропаганды.
Немецкий историк Герхард фон Менде, автор монографии «Национальная борьба российских тюрков. Исследование национального вопроса в Советском Союзе». В министерстве фон Менде возглавлял Центр по народам восточных территорий (Zentralstelle für Angehörige der Ostvölker).
Татарский легион входил в состав Восточных легионов (Ostlegionen) - регулярных коллаборационистских соединений вермахта, набиравшихся исключительно из представителей национальных меньшинств в СССР (после обучения из них формировались «восточные батальоны», принимавшие участие, в том числе, и в боевых действиях). Восточные легионы находились в подчинении Управления восточными войсками при Верховном главнокомандовании вермахта, созданного в январе 1943 года.
 Что говорит гороскоп о совместимости женщины рыбы и льва мужчины
Что говорит гороскоп о совместимости женщины рыбы и льва мужчины Как завоевать мужчину-Весы
Как завоевать мужчину-Весы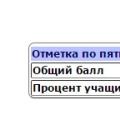 Тест по обществознанию огэ
Тест по обществознанию огэ